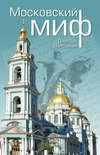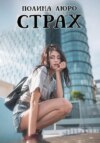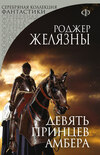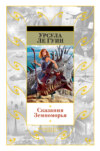Читать книгу: «Детали и дали», страница 3
Лондонский подход и культурные отличия
Вот наблюдаю я за всем, что происходит у нас под аккомпанемент свинцовых ноябрьских дней – затяжным пике рубля, разгоном инфляции, начавшейся (пока только начавшейся!) новой волной банкротств, которые опять, как всегда, конечно, никого ничему не научат. И вспомнился мне забавный эпизод времён прошлого «кризиса». В кавычках потому, что какие у нас кризисы? Скорее напоминания, что цены на сырье иногда, как это ни удивительно, падают, а экономика сильно-таки зависит от выкрутасов властей.
А история была вот какая. Решил я в своей предыдущей консалтинговой конторе в конце 2008 года начать пропагандировать среди российских банков так называемый London Approach9 применительно к реструктуризациям долга. Это такие добровольные правила поведения банков и их несчастных должников, когда этих самых банков много и денег на всех не хватает. Если кратко – не тяните одеяло на себя, уважайте друг друга, будьте честны и открыты. Как в той задачке про двух заключенных – только с бОльшим числом участников.
В то время я ещё не понимал всей абсурдности пропаганды этого идеализма средь наших банков – что государственных, что частных. Знание, которое, как известно, умножает печаль, пришло позже. А тогда с изумлением смотрел на зампреда родного ЦБ, который, когда мы с коллегами ему эти светлые идеи излагали, в свою очередь, с непониманием смотрел на нас – мол, а мне-то почему до этого всего должно быть дело!
Но я не сдавался. Устраивал всякие мероприятия с участием важных особ типа лорда-мэра лондонского Сити. И даже сходил к депутату, возглавлявшему в Думе один из профильных комитетов. Назовем депутата, к примеру, Б.
Я рассказал Б., как было бы здорово, если бы государство поддержало Лондонский подход. Усадило бы банки за круглый стол и стукнуло по нему кулаком – договаривайтесь, мол, конструктивно! И какие бы политические очки набрал лично Б., продвинув столь своевременную идею.
Это было моей ошибкой, чуть, как говорят в таких случаях, не ставшей роковой.
Через пару недель я сидел в своем замечательном кабинете на 34-м этаже одной из башен Москва-Сити. (Кабинет был замечателен тем, что находился в углу, имел треугольную форму, а поскольку башни Сити сделаны из стекла, то и все стены кабинета были, соответственно, стеклянными, и, поработав, можно было просто развернуться на кресле и отдохнуть, любуясь панорамой Москвы… Но, впрочем, песня не о нем.) Поскольку «последствия мирового экономического кризиса», как это было принято официально именовать, уже вовсю набирали обороты, засиживался я допоздна.
Часов в девять позвонила наша PR-менеджер и сказала, что только что ей звонили из Reuters с просьбой о комментарии. Мол, сегодня довольно сильно упали котировки российских еврооблигаций и курс рубля. (Прискорбно, ну и что?) А то, что было это вызвано некими заявлениями, которые сделал депутат Б. во время своей поездки… ну, скажем, в Южную Корею. (А что он сказал?) Он заявил в интервью, что Центральному банку надо ввести мораторий на все выплаты российскими компаниями по внешним долгам. (Что это он? Собачатины объелся? И всё равно: почему наша уважаемая международная консалтинговая фирма должна этот бред комментировать?)

Так ведь Б. дальше сказал, что именно наша уважаемая международная консалтинговая фирма ему это насоветовала.
Дальнейшее проплыло в голове, наверно, за доли секунды. Сначала ощущение безраздельного абсурда. Потом из темноты начало выплывать понимание того, что произошло. Это он так интерпретировал наши рассуждения о том, что ЦБ и правительство должны помочь банкам выработать общие принципы, схожие с London Approach, один из которых – объявление добровольного моратория на взыскания по кредитам, чтобы дать должнику передышку и возможность согласовать план реструктуризации долгов. Как можно это извратить таким вот образом???
А PR-девушка на том конце трубки продолжала бодро рапортовать. ЦБ, мол, уже выпустил официальное заявление, в котором дезавуировал слова Б. и сказал, что никакого моратория он объявлять не собирается. Но коллеги из Reuters сомневаются. Ведь и в девяносто восьмом за пару дней до 17 августа наш всенародный рубил воздух ребром ладони: «Дефолта, панимаеш, не будет!!» И коллеги вот спрашивают, что же вы такого депутату Б. посоветовали и главное – зачем?
В отдельных частях организма возникло чувство незащищённости – ровно обратное тому, которое сулит реклама женских прокладок. А мозг стал рисовать всякие картинки в стиле Босха. Как завтра утром Б. вызывают для объяснений к… Нет, лучше даже не думать, к кому его вызывают.
– Кто Вас надоумил такое сказать, нанеся тем самым многомиллиардный урон многим уважаемым, дружественным нам предпринимателям и экономике России в целом?
– Так ведь уважаемая фирма К…
– Кто конкретно из фирмы К.? В глаза смотреть!
– Ну этот, как его… Е.
– А ну разобраться с этим Е.и доложить по результатам!
– Есть!
И тяп по Ляпкину, ляп по Тяпкину.
Пробормотав что-то вроде «пока никаких комментариев», я дрожащим пальцем набрал своего непосредственного начальника – иностранца, понятное дело – назовем его Т. Изложил ему кратко, что произошло, и завершил своё сбивчивое (по причине крайне возбужденного состояния) выступление тем, что у нас, кажется, проблемы. На что Т., вторя герою Вицина из «Операции Ы», заметил, что «не у нас, а у Вас», что он мне давно говорил, что надо тихо делать свою работу, а не выпендриваться и не корчить из себя властителя умов. Короче, чтоб я сам теперь из всего этого выпутывался.
Прав был старина Т., как всегда, прав.
Надо ли говорить, что спал я той ночью не лучшим образом. Босх в голове продолжал рисовать свои апокалиптические картинки. Под утро я схватил загранпаспорт и стал лихорадочно перебирать страницы, чтобы понять, есть ли у меня открытая британская виза. Вполне возможно, думал я, мне самому придётся применить «лондонский подход». А вернее, отход. Хотя границы для меня наверняка уже закрыли…
Всё-таки склонны мы преувеличивать свою значимость в этой жизни!
Конец у этой истории оказался малоинтересным. На следующее утро Б. опубликовал по всем каналам опровержение. Мол, корейские журналисты грубо извратили его слова – может, переводчик чего не так перевёл, а может, сами журналисты не поняли, что с них взять. А как там было на самом деле – никто уже, наверно, не узнает.
Мы тоже, скоординировавшись с Б., разъяснили, где только могли, «что конкретно мы имели в виду». И для меня всё обошлось практически без последствий. Ну, разве что на какое-то время стал снарядом для соревнований в остроумии коллег и всех, кто был в курсе, как я «обрушил финансовые рынки».
Б., правда, через какое-то время потерял пост председателя своего думского комитета и стал простым депутатом. А уж было ли это как-то связано с описанной историей или просто стало следствием политической борьбы – сказать не могу.
У меня, как и у всех нас, конечно, было множество и других забавных ляпов в работе. Куда ж без них. Например, много лет назад мы отправляли важное письмо тогдашнему министру финансов Кудрину, и в исходящем номере, состоявшем, по нашим правилам, из инициалов партнёра (которого звали David John Crawshaw) и фамилии получателя, из-за какого-то технического сбоя исчезли одна буква и косая черта, и в шапке письма первой строчкой гордо значилось: DJKudrin. Заметили поздновато. Еле успели вытащить из канцелярии Минфина, а то нам бы устроили дискотеку.
Но такие случаи, как правило, подразумевают только один вывод: как говаривал Жванецкий, «тщательнЕе надо». А в истории с «лондонским подходом» мораль (если она вообще в ней есть, в чём я сильно сомневаюсь), наверно, другая: всё, что мы делаем даже с самыми благими намерениями, может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Поэтому либо сиди и не отсвечивай, либо уж изволь – будь готов.
У меня вот после того случая довольно-таки надолго отпало желание заниматься, как говорят в инофирмах, thought leadership. Кстати, причины любви корпораций к высокопарно-демагогической терминологии, приводящей к полной подмене смысла слов, заслуживают отдельного анализа. Ну ладно, выпуск всякого рода исследований, докладов и презентаций, как правило, на некоммерческой основе (что и означает термин thought leadership), можно ещё иногда (хотя и крайне редко) назвать «умственным лидерством». Но автоматически называть так каждую выпущенную брошюру?? «We issued a thought leadership on…» Да откуда вы знаете, поведете вы за собой умы или нет? Меня как-то спросили сотрудники европейского маркетинга, когда я говорил о важности thought leadership: «Which specific piece of our thought leadership do you mean»?10 Кусочек умственного лидерства. Бедные взросшие в неволе ребята, не знающие изначального смысла слов…
Или вот ещё слово talent, которым вдруг стало принято именовать сотрудников (кадры, по-нашенски). Вообще любых. Когда я впервые пришел в мир иностранных фирм, это называлось «human resources», и мне было немного обидно, что я ресурс. Но talent – по-моему, явный перебор. Ау, где вы, таланты…
Это я так, отвлёкся, но если надо привязать к вышеизложенному случаю, то вот, извольте, вторая мораль: западные концепции и термины, перенесенные на нашу почву без должной адаптации, могут и звучать нелепо (все эти «дорожные карты», «вызовы» и т.д.), и восприниматься совсем по-другому. В причинах этого стОило бы как-нибудь покопаться. А пока – последняя иллюстрация.
На заре своей карьеры переводил я одному лондонскому партнеру – большому светилу в области несостоятельности, приехавшему просвещать наших чиновников в рамках не оскудевшего тогда ещё международного содействия российским рыночным реформам.
– I am an accountant, – начал он.
– Я – бухгалтер, – честно перевел я.
– Ну что же Вы сразу неправильно переводите! – возмутился один из наших, – Посмотрите на него. Ну какой он бухгалтер?! (А начальник мой – и правда, настоящий английский джентльмен. Высокий, статный, в хорошем костюме).
– Мы прекрасно знаем, как выглядят бухгалтерА! (см. незабвенную одноименную песню группы «Комбинация»)
После недолгих дебатов на полном серьёзе договорились, что слово accountant следует переводить как «их бухгалтер» – в противовес нашему, в нарукавниках. Запад есть Запад, Восток есть Восток…
(ноябрь 2014 г.)
Встречи на Лохином острове
Лохин остров – примечательное место. В каких-то пяти километрах от Москвы – окруженный рекой рай с сосновым лесом посредине и душистыми лугами вокруг. Почти нет людей и мусора. Выходят лоси (об этом ниже), грызут прибрежные деревья бобры, парят на лугом ястребы. Как и насколько всё это сохранилось?
Но самое главное – переходя ведущий на остров маленький железный мостик, каждый раз чувствую изменение своего состояния. Становится легко и радостно. Дышится полной грудью, а воздух делается таким прозрачным, что даже на большом расстоянии различимы все травинки. Может, дело просто во внезапно открывающихся далях и запахах разнотравья – не знаю.
Сравнительно маленький этот остров отличается удивительным разнообразием пейзажей. То сосновый бор, то ивняк вдоль реки. То вид на водное зеркало с кучевыми или перистыми, но всегда красивыми облаками над ним, а то на заросшее озеро (якобы 150 метров глубиной. Мы померили эхолотом – показывает восемь максимум. Утешаюсь, что слой водорослей мешает…). А выйдешь из леса – на той стороне старицы покажется дворец Архангельского.
В общем, если не обошёл ещё весь остров, никогда не знаешь, что ждёт за поворотом. Это добавляет какой-то таинственности.
А ещё на острове время от времени происходят интересные вещи. Гуляли тут с Кузей (наш ньюфаундленд) по краю леса, оборачиваемся – а к нам через луг со стороны реки медленно идет лось. Небольшой, без рогов – наверно, лосёнок-подросток, хоть я в лосях не очень разбираюсь. Спокойно подошёл метров на десять, смотрит. Я, преодолевая некоторую опаску (откуда-то из детства всплыло: «лоси бывают агрессивными»), достал из пакета яблоко, кинул ему под ноги (лошади любят яблоки, наверно, лоси тоже)?
Ноль внимания. Может, редкие посетители острова предлагают ему что-нибудь повкуснее?
Поскольку Кузя начал заметно нервничать, а потом и вовсе залился грозным лаем, порываясь расправиться с непонятным чудовищем, мы пошли дальше по лугу по направлению к выходу. Лосёнок дал нам чуть-чуть оторваться и поплелся за нами, метрах в пятидесяти. Мы остановимся – и он тоже. Идём дальше – и он за нами, иногда, правда, делая вылазки к стоящим в стороне кустам и пригоркам. Стало смеркаться (был на удивление пригожий сентябрьский вечер), и в опустившейся прохладе луговые запахи стали ещё более острыми. А наш попутчик стал то и дело пропадать из поля зрения, сливаясь с кустами, но всякий раз появлялся позади нас снова.

Он так и вёл нас до выхода с острова (того самого армейского железного мостика через затянутый ряской канал). Но дальше за нами не пошёл: мы направились по тропинке через вспаханное поле к Глухову, а он растворился в зарослях. Показалось, что Кузя, который всю дорогу то и дело неодобрительно озирался на нашего попутчика, испытал изрядное облегчение.
Кстати, именно с Кузей связана ещё одна странность, замеченная мной на Лохином острове. Несколько раз, когда мы проходили по берегу Москвы-реки, пёс вдруг начинал носиться в разные стороны как сумасшедший, кататься по земле, скалить зубы и вообще вести себя не вполне адекватно. Каждый раз приходилось приложить определённые усилия, чтобы привести его обратно в чувство. И только через некоторое время я понял, что это происходило всё время на одном месте…
Через неделю после встречи с лосёнком, тоже воскресным вечером, мы сидели с Сашкой и опять же Кузей на Лохином на берегу реки – под обрывчиком, которым заканчивался луг, среди погрызенных и сваленных бобрами стволов. Я безуспешно забрасывал спиннинг, пытаясь повторить свой недавний успех – поимку щурёнка грамм на четыреста.
Поскольку не клевало, я время от времени отвлекался на фотографирование: Саша и Кузя на обрыве на фоне вечернего неба, коряга в воде и радуга на заднем плане (прошёл мимолётный дождик) и прочие радости. Кстати, остров очень фотогеничен – можете залезть в интернет и проверить.
Вдруг на обрыве появилась третья фигура – и достаточно любопытная. Молодой человек в чёрном костюме, белой рубашке (вечером в воскресенье!). Светлые волосы убраны сзади в хвостик. Незнакомец вежливо поздоровался и стал спросил, как рыбалка. Завязался обычный рыбацкий разговор: что, где и когда клевало. При этом мой собеседник проявлял недюжинную осведомлённость в повадках лохинской рыбы.
– Здесь много щуки, но некрупной. А вот там, на мысу, уклейка. Такая жирная!
– А что за рыба там бьёт на середине?
– Жерех. Но поймать даже и не думайте. Наипаче Вы бросаете не очень хорошо. А Вы часто здесь бываете?
– Да раз в неделю в последнее время – по выходным…
Наипаче.
Я решил сходить на мыс, незнакомец пошагал рядом. Саша с Кузьмой пошли следом. Здесь нужно заметить, что Кузя, обладая крайне дружелюбным нравом, обычно бросается облизывать всех встречных. Не любит и облаивает он только две категории: дворников и рабочих из Средней Азии (по невыясненным до конца причинам), а также тех, в ком чувствует напряжённость или враждебность. Моего же спутника Кузя как будто не заметил вовсе, предпочтя заниматься своими делами, в данном случае – поиском удобного места, чтобы залезть в воду.
– Там впереди есть хороший вход. Бобры протоптали…
Я повернулся к своему неожиданно образовавшемуся собеседнику, и понял, что никакой он не молодой. Лицо с крупным кавказским или семитским носом (несколько странно смотревшимся со светлыми, даже выцветшими (но не седыми) волосами) пересекали глубокие морщины. Я понял, что спутнику моему как минимум крепко за пятьдесят.
Понаблюдав ещё несколько минут за моими бросками, он пожелал удачи и ушёл. Я понял, что пора заканчивать и мне. Солнце уже село, и с воды заметно потянуло холодом (сентябрь медленно брал свое) – а до машины идти, даже быстрым шагом, не меньше получаса. Я смотал спиннинг (ни одной поклевки за вечер…), мы выбрались на луг и тронулись в путь.
Луг, как всегда, а точнее – как всегда по-разному, был красив и душист. Но на этот раз что-то беспокоило и отвлекало от красот природы, и что это, я понял только через несколько секунд.
Нашего нового знакомого нигде не было. Мы вышли от силы через две-три минуты после него, а луг с этого места просматривается в каждом направлении минимум на километр. На машине на остров, как я уже, кажется, говорил, не заедешь, а велосипеда мы у незнакомца не заметили.
Конечно, возможны несколько версий, объясняющих его пропажу. Во-первых, он мог пойти в противоположном от выхода направлении и снова спуститься на берег. Именно в противоположном, поскольку мы прошли вдоль берега, и нигде его не заметили (если, конечно, он в своем чёрном костюме не забрался в густо заросшее ивняком болото на берегу, где, кстати, я в первый раз видел на острове лося, который как раз туда направился, переплыв Москву-реку). Но это уж совсем маловероятно.
Во-вторых, возможно, незнакомец, распрощавшись с нами, бегом бросился в сторону леса в центре острова (расстояние до него все же было поменьше, чем просматривающееся в прочих направлениях), в коем и растворился. Также возможно, что он приплыл на остров на лодке, например, со стороны Архангельского и на ней же отправился обратно.
Наверно, можно было придумать ещё какие-нибудь версии, но ни одна из них в силу совокупности описанных выше обстоятельств не выглядела бы правдоподобнее. И от этого, а также, наверно, из-за быстро спустившихся на остров темноты и осеннего холодка, вдруг стало чуть-чуть страшновато.
Вот и вся история. Мы без происшествий дошли до машины Если бы моей целью было наддать «саспенса», стоило бы что-то додумать. Но я просто описал всё, как было. У этих странностей наверняка есть простые и логичные объяснения – и, кстати, в мистику я не особенно верю, а уж во всяких там призраков и проч. – тем более.
Но если снова встречу незнакомца – пожалуй, спрошу: «А это не Вы тут недавно были лосёнком?»
(декабрь 2013 г.)
Эссе о С.
С. был одним из самых удивительных людей, которых я когда-либо встречал. Теперь я уже могу об этом говорить. Сейчас ему было бы пятьдесят четыре; он умер в тридцать семь. Никаких круглых дат, но почему-то чем дальше, тем чаще я о нём вспоминаю. Впрочем, нет, одна дата всё же имеется: мы познакомились с С. ровно тридцать лет назад в «Артеке».
Могли бы познакомиться и до этого – в том же «Артеке» на год раньше, в международную смену восемьдесят седьмого, когда произошло моё переводческое крещение, или в нашем институте, где он был аспирантом на кафедре политэкономии. Но всё, наверно, происходит в своё время, и тогда мы часами бродили по горным дорожкам над морем, рассуждая обо всём, начиная от философов-экзистенциалистов и кончая актуальными проблемами перестройки и ускорения.
А беседовать с ним действительно можно было на любые темы. Кажется, он перечитал абсолютно всю классику – русскую и иностранную, причём последнюю в основном в оригинале (он хорошо знал четыре языка). То же и в философии, а об экономических учениях вообще не говорю.
Ещё он блестяще играл на пианино и слушать в его исполнении Шуберта, Шопена, Чайковского было величайшим удовольствием (ещё он знался со многими большими музыкантами, например, Антоном Батаговым). Но, чтобы послушать, как играет С. надо было подкрасться, потому что играл он, главным образом, для себя. Делание чего бы то ни было для саморазвития, а не напоказ, вообще было его чертой.
Так он и стоит, вернее, сидит перед глазами, вернее, перед инструментом – словно из сцены в фильме «Красотка», даже чем-то похож на Ричарда Гира, только в очках в толстой роговой оправе и вместо белой рубашки – цвета хаки, не знаю, где он брал их, может, остались от давно ушедшего отца, который вроде был военный.
Об отце, кстати, он не упомянул в наших разговорах ни разу.
Будучи интеллигентом образца, пожалуй, даже не прошлого, а позапрошлого века (в смысле многогранности), С. был при этом физически сильным и мужественным, но опять же без показного, как его теперь называют, мачизма. Он и постоять мог за себя и тех, кто рядом с ним, и прийти на помощь в тяжелых физических работах типа разгрузки каких-нибудь там бетонных блоков. Занимался единоборством (уж не помню, каким), был прекрасным пловцом. Помню, как он учил меня в кроле дышать на нечётный гребок, поворачивая голову в обе стороны (если вы понимаете, о чём я).
Он был во всём настолько совершеннее меня (кроме, пожалуй, только шахмат), что это меня даже злило.
Как он дошёл до жизни такой, я не знаю. С мамой его я толком познакомился уже после его смерти – была она, не помню, бывшая то ли учительница, то рядовой какой-то научный сотрудник и воспитала С. без отца, но вместе с бабушкой. И, конечно, безумно любила его и, наверняка, много ему дала. Я всё же думаю, что С. был настоящий self-made man11 и достиг многого не благодаря, а вопреки. Но его «мягкий, но твёрдый» характер, похоже, был как раз мамин.
А когда пришла рыночная экономика, С. сначала отработал какое-то время в одном из экономически ориентированных управлений МИДа. И был там, несмотря на отсутствие блата, на прекрасном счету, но видимо, чувствовал, что настоящая жизнь нового времени – другая. И он году, кажется, в девяносто втором или третьем пошёл работать в одну из аудиторских фирм «Большой (тогда еще) Шестёрки» (ныне – «Четвёрки»), начавшей обосновываться тогда в России. Быстро стал делать хорошую карьеру и там – благо, голова-то была ого-го и трудолюбие – редкое. Жаловался только, что не о чем ему говорить с более молодыми коллегами во время ежедневных совместных выходов на ланчи – те-то всё о шмотках, ночных клубах и прочих атрибутах красивой жизни. Я тоже всё это (в смысле не красивую жизнь, а скуку от разговоров о ней) познал, попав в мир зарождавшихся инофирм через пару лет после С.
В аудиторах он, однако не задержался, совсем скоро перейдя во вновь открытое представительство одного из крупнейших американских банков на казавшуюся запредельной должность главного бухгалтера.
И всё у него было замечательно – только одно «но», которое я излагаю тут больше по рассказам людей, вхожих в его семью.
С. был популярен у девушек. Да и как иначе с учетом всего вышеперечисленного, пусть даже одевался он всегда неважно, хоть и опрятно и чисто – равнодушен был к этому. Вот только у мамы девушки его популярны не были, и многим дала она от ворот поворот. Тема не нова, а причины такой реакции волевой матери понятны. Для этих ли вертихвосток (ещё и корыстных, скорее всего) растила я в одиночку своё сокровище. А С. перечить ей, видимо, напрямую не мог.
Только и С., как уже отмечалось, был с характером. Протест выплеснулся другим образом: у С. образовался некий новый мужской круг общения, какие-то люди, которых он постоянно спонсировал из своей немаленький зарплаты – учёбу, заграничные поездки, ещё какой-то отсутствовавший ранее «брат», с которым он стал проживать… Своих старых друзей, в том числе и меня, он с ними не знакомил; только пару из них я видел на поминках.
Только потом я вспомнил, как ещё во время упомянутых прогулок по-над морем он спрашивал меня, не кажется ли мне, что девушки все какие-то скучные. Разговор этот я поддержать не мог: мне и сейчас так не кажется, а уж в девятнадцать-то лет… Больше ничего сказать не могу; ко мне он не приставал. Может, не в его вкусе был.
В следующий и, кажется, последний раз мы встретились, уже когда я вернулся из Лондона летом 2001 г. До этого переписывались, поэтому я знал, что он тяжело заболел и много времени проводил в больницах. Из-за этого пришлось оставить работу в банке. Зато он вместе с какими-то партнёрами купил свой собственный небольшой банк то ли в Мордовии, то ли в Удмуртии, куда постоянно мотался. Как он это делал, я не представляю, потому что выглядел он тенью прежнего С.: осунулся, двигался с видимым трудом, дышал, как бы прислушиваясь. Может быть, именно поэтому и проект с банком не удался. Я уверен, что в другое время он преуспел бы и в этом.
Я тогда пытался создавать в Москве в своей конторе отдел реструктуризации и предложил ему поработать со мной – хоть на полставки, хоть как. Он сказал с видимым стеснением: «Боюсь, что у меня нет приличного пиджака для интервью»… Вот так. А дома в маленькой комнатке бывшего члена правления крупного иностранного банка оставались только пианино, ноты и книги. Всё остальное, видимо, ушло «братьям».
Поработать вместе не пришлось, потому что здоровье его резко ухудшилось. Впрочем, потом он позвонил, кажется, в ноябре – звучал бодро, говорил, что надо бы увидеться, но лучше когда он выйдет из больницы: сейчас он как раз ложится на пару недель на обследование, которое должно подтвердить, что всё уже хорошо.
Потом, как водится, обсуждали новости от общих знакомых и прочие темы обычного телефонного трёпа не разговаривавших какое-то время приятелей. Беседа, однако, была прервана начавшими истошно орущими в холле соседями. У нас как раз шёл ремонт, и что-то им не понравилось. Мне пришлось сказать С., что, наверно, придётся договорить в другой раз.
Соседи эти были противные люди из серии «…Я ему создам уют, живо он квартиру разменяет» и скандалили они регулярно. Но за этот раз я их искреннее ненавижу, потому что это оказался наш последний разговор с С., последний раз, когда я слышал его спокойный низкий голос, выстроенную из коротких артикулированных фраз речь. В январе он умер. Думаю, когда мы говорили, он уже обо всём знал.
Потом мне позвонила его мама, сказала, чтобы я заехал – есть конвертик для меня.
Прошло несколько недель; она была довольно спокойна – наверно, это компенсаторная реакция… Помню, рассказывала, что в последний год С. стал часто ходить в церковь, «мы с ним вместе молились об избавлении…» Удивительно, я никогда не слышал от него разговоров о религии или о Боге.
Открыл конверт. Знакомый почерк – округлые буквы с лёгким наклоном влево, но все ломанные, с неравномерным нажимом, и строчки скачут. Писать ему явно было очень тяжело. Письмо начиналось так: «То, что вам передаст мой друг – прощальный подарок от меня»… К письму ничего не прилагалось. Видимо, друг забрал подарок себе, а письмо (как, наверно, и другие адресованные близким людям) отгрузил маме. Я не спросил её тогда, кто был тот друг: какая разница.
Дальше в письме были короткие совместные воспоминания, приятные личные слова. А в конце: «Теперь уже точно навсегда ваш,» – и подпись.
Это письмо я потом в результате переездов потерял.
Вот, в общем, и всё. Как всегда, я пытаюсь придумать в конце истории мораль, и, как всегда, она не придумывается. А остаётся только щемящая печаль, что с каждым годом всё больше людей, с которыми так остро надо бы поговорить – а уже нельзя. Только мысленно или во сне. Вот и С.: что бы он сказал о том и об этом, какие бы книжки порекомендовал, как бы оценил, в конце концов, мои стишки…
И ещё удивление от того, что вот ушёл такой человек и ничего от него не осталось, и даже вспоминают его уже редко, а не станет ещё нескольких людей вроде меня – и всё.
Но пока остаются воспоминания вроде того, что вот конец восьмидесятых, мы гуляем в весеннем Серебряном бору, пахнет перепревшими за зиму листьями и иголками и вылезающей свежей зеленью. Толп отдыхающих ещё нет, и весь «сербор» наш – как собственно, и весь мир. Мы пьём сладкое шампанское «Надежда», от которого сейчас бы наверняка вытошнило, а тогда – в самый раз. И говорим, говорим – уж не помню о чём, но наверно о только что вышедшем в переводе «Замке» Кафки, и о Бердяеве, и о Гребенщикове с Курёхиным, и, конечно, о том, как нам обустроить Россию. А в том, что мы её вскоре обустроим и что надвигающаяся новая жизнь будет прекрасной, никаких сомнений нет.
(июль 2018 г.)