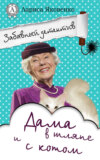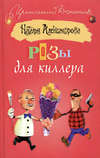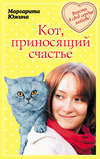Читать книгу: ««Кровью, сердцем и умом…». Сергей Есенин: поэт и женщины», страница 7
Есенин ушёл, но оставил прекрасные свои произведения, оставил нам поэму «Анна Снегина», которую мы не только читаем, но и до сих пор разгадываем её загадки, в том числе и загадки её антропонимов.
Кажется, один из источников фамилии героини мы нашли. Источник поразительный и «дословный». Есть и другие объяснения и предположения: нельзя скидывать со счетов исследования о семантических источниках фамилии.
На протяжении всего произведения поэт настойчиво употребляет эпитет «белый» и включает его в разные картины. Белый цвет – символ духовной чистоты, но в то же время – цвет траура в крестьянской среде.
Образ невинной девушки в белой накидке и образ помещицы Снегиной, имеющей женскую тайну – преступную страсть, а также той Анны Снегиной, которая в эмиграции вспоминает о родине и о первой любви, не совпадают и живут как бы отдельной жизнью. Таким же сложным и противоречивым оказывается отношение героя-рассказчика, изысканного и прославленного столичного поэта, к революции и деревенским персонажам…
Снег бел и чист. В народной поэзии с образом белого снега часто связаны мотивы грустной и печальной любви. В лирическом плане эпитет «белый» как бы заменяет собой фамилию и появляется там, где автор говорит об Анне, не упоминая ее имени.
«В то же время образ «девушки в белой накидке» живет в поэме как бы отдельно от образа Анны Снегиной, дочери помещика, жены белого офицера» (наблюдение С. П. Кошечкина в его кн. «Весенней гулкой ранью…». – Минск. – 1989. – С.158). Это достигается за счет использования разных ракурсов описания одного и того же объекта – внутреннего (белый цвет – символ высокой нравственности и непогрешимости в христианстве и цвет траура в крестьянской среде) и внешнего (цвет одежды). При этом одна и та же картина может «вставляться» в различные по тематике произведения:
Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет…
(Сергей Есенин. «Вот оно, глупое счастье…». 1918)
Но припомнил я девушку в белом…
О чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом
(Сергей Есенин. «Сукин сын». 1924)
Эту особенность творческой манеры Есенина Е. А. Некрасова называет «отличительной чертой идиостиля Есенина». (Сб. «Очерки истории языка русской поэзии XX века». – М. – 1995. – С. 396. – 448).
Третий и, скорее всего, самый важный, источник фамилии Снегина – литературный, совпавший с первыми двумя, а возможно, и определивший их выбор, – роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». «Близость звукового облика» названий романа Пушкина и поэмы Есенина отметила М. Орешкина. Наблюдения лингвиста развил В. Турбин, который счел фамилию героини Есенина, «каламбурно перекликающуюся с фамилией пушкинского героя – О-негин и С-негина, – «индикатором традиции», о пушкинской традиции в есенинской «Анне Снегиной» пишет и Э. Мекш (см.: Турбин В. Традиции Пушкина в творчестве Есенина. «Евгений Онегин» и «Анна Снегина» // Сб. «В мире Есенина». – С. 267; Мекш Э. Б. Пушкинская традиция в поэме Есенина «Анна Снегина» // Пушкин и русская литература. – Рига. – 1986. – С. 110 – 118).
Фамилия есенинской героини, кстати, в первоначальном названии поэмы не только «каламбурно перекликалась с фамилией пушкинского героя», но была точно такой – Онегина. Первоначально Есенин назвал свою поэму именно так – «Анна Онегина».
Исследователи отмечали важную особенность деревенских персонажей «Анны Снегиной» – их разность: перед нами «разные» мужики (Прокушев Ю. Л. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. – М. – 1975. – С. 305).
«Есенин и его герои как бы вторгаются туда, где жили герои Пушкина, – в деревню, в обстановку дворянской усадьбы: герой-рассказчик Сергей въезжает в поэму на дрожках, Евгений Онегин „летит в пыли на почтовых“. Письмо Анны Снегиной вызывает в памяти знаменитое письмо пушкинской Татьяны к Онегину». (Прокушев Ю. Пушкин и Есенин: Письмо Анны Снегиной // Журнал «Огонек». – М. – 1979. – №41. – С. 24 – 25).
Герой поэмы Есенина, как показал В. Турбин, «изысканный, а заодно и прославленный петербуржец, своеобразный Онегин начала XX века, Онегин-крестьянин, Онегин-поэт», «герой нашего времени», ведущий «социально-лирический диалог с дворянкой». «Анна Снегина», – пишет В. Турбин, – сопоставима с романом Пушкина по многим параметрам: ирония тона повествования, обрамление рассказываемого письмами героев, их имена и их судьбы. Традиция живет, пульсирует, неузнаваемо преображается, таится и вдруг обнаруживает себя в случайных или в преднамеренных совпадениях, в мелочах» и полемически противопоставляется героям пушкинского «Евгения Онегина». (В мире Есенина: Сб. статей / Авт. А. А. Михайлов, С. Лесневский. – М.: Сов. писатель. – 1986. – С. 281).
Об особом внимании Есенина к пушкинской традиции в 20-е гг. свидетельствуют стихотворение «Пушкину», анкета журнала «Книга о книгах» (ответы Есенина к Пушкинскому юбилею), а также комментарий к «Черному человеку».
Одна из корреспонденток поэта, Л. Бутович, писала ему 22 августа 1924 года, прочитав в «Красной нови» (1924, №4) стихотворение «На родине»: «Да, у меня было такое чувство, будто я читаю неизданную главу „Евгения Онегина“, – пушкинская насыщенность образов и его легкость простых рифм у Вас, и что-то еще, такое милое, то, что находит отклик в душе… Мне кажется, что, как он, Вы владеете тайной простых, нужных слов и создаете из них подлинно прекрасное… Вы могли бы дать то же, что дал автор „Евгения Онегина“ – неповторимую поэму современности, не сравнимую ни с чем». Позже поэт сам отметил в автобиографии «О себе» (октябрь 1925): «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину».
«Анна Снегина» имеет и другие, близкие по времени объекты скрытой полемики – женскую поэзию времен Первой мировой войны и прозу 10-х годов, проникнутую народническими настроениями. И снова возвращаемся к имени писательницы Ольги Сно, путевой очерк которой под названием «На хуторе», опубликованный в петроградской газете «Биржевые ведомости» (1917, 30.07), является одним из подобных конкретных источников сюжета и персонажей поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина». Но скрытая полемика между «женской прозой 10-х годов» и произведением Есенина заключена в противопоставлении атмосферы «невыразимого спокойствия» (очерк Ольги Снегиной) и неспокойной атмосферы революционной деревни (поэма Есенина).
Образ девушки в белой накидке в «Анне Снегиной», напоминающий юную Анну Сардановскую, и образ помещицы Снегиной, который символизирует печальную тайну, страсть женщины, которыми обладала Лидия Кашина, и образ изгнанницы-эмигрантки, вспоминающей о родине, за которым угадывается история Ольги Сно, – не совпадают и живут как бы отдельной жизнью.
Была у Сергея Есенина ещё одна знакомая – Анна Лаппа-Старженецкая. Она до конца своих дней была уверена, что имя Анна Есенин дал героине в честь её, своей батумской приятельницы. Во время работы над поэмой «Анна Снегина» Есенин много беседовал с Анной Старженецкой (урождённой Чачуа), которая рассказывала ему историю своей жизни. Когда Анна Алексеевна прочитала поэму, она обнаружила в биографии героини эпизоды своей жизни.
Была ещё и пятая женщина, обращаясь к которой, Есенин сказал: «Вы всё-таки похожи на неё…». На кого? У исследователей творчества Есенина есть на этот счёт свой ответ: «На Анну Снегину…». Речь идёт о Наталье Крандиевской. Её имя логичнее было бы включить в часть «Сергей Есенин и женщины с Именами», но мы нарушим эту логику, чтобы закончить разговор о прототипах Анны Снегиной…
«Вы всё-таки похожи на неё…»
НАТАЛЬЯ КРАНДИЕВСКАЯ

Наталья Крандиевская
Наталья Крандиевская (1888 – 1963) родилась в Москве. Отец поэтессы Василий Афанасьевич Крандиевский (1861 – 928) был земским деятелем, позднее издателем «Бюллетеней литературы и жизни», публицистом, библиофилом, знал литературную Москву от Льва Толстого до Глеба Успенского и Гаршина.
С конца 1890-х Крандиевские живут в Гранатовом переулке, в доме их близкого родственника «миллионщика» Сергея Аполлоновича Скирмунта. Литературный быт был частью жизни этого семейства, частыми гостями которого были Короленко, Максим Горький.
Мать Натальи Крандиевской, Анастасия Романовна (1865 – 1938), в девичестве Тархова, – известная писательница, автор многих рассказов и повестей.
Когда накануне Первой русской революции правительство сошлет Скирмунта в Олонецкую губернию, Анастасия Романовна отправится вслед за ним, прихватив с собой и детей. И супруг возражать не будет.
Детей у Крандиевских было трое: Сева, Туся (Наташа) и Дюна (Надежда Крандиевская, появившаяся на свет 13 августа 1891 года и в будущем ставшая скульптором; умерла в 1962 году).
Наташу Крандиевскую Горький величал «премудрая и милая Туся».
С детства она прекрасно музицировала на фортепиано, училась рисованию и живописи у Добужинского и Бакста. Но делом всей её жизни были стихи, и только стихи:
…Звук воплотился в сердца стук,
И в пульс, и в ритм вселенной целой…
Туся начала писать в восемь лет (первая её публкация в журнале «Муравей» подписана Т. (Туся) Крандиевская. В тринадцать она уже печаталась в московских журналах. Талант пятнадцатилетней москвички оценил Бунин, уже в эмиграции с теплотой вспоминавший об отроческих стихотворных ее опытах: «Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже».
В пятнадцатилетнюю Крандиевскую были влюблены и Бунин, и Бальмонт.
Вот стихотворение «Сумерки», написанное в 1903—1904 годах и не включенное автором ни в одну из трех прижизненных книг:
Тает долгий зимний день…
Все слилось во мгле туманной,
Неожиданной и странной…
В доме сумерки и тень.
О, мечтательный покой
Зимних сумерек безбрежных,
И ласкающих, и нежных,
Полных прелести немой!..
В старом доме тишина,
Все полно дремотной лени,
В старом доме реют тени…
В старом доме я одна…
Чуть доносится ко мне
Шумных улиц гул нестройный,
Словно кто-то беспокойный
Тщетно мечется во мгле!
Ночь крадется у окна…
С бледной немощной улыбкой
Тает день, больной и зыбкий.
В сердце сумрак… Тишина…
Мы улавливаем перекличку этих стихов со строчками Бориса Пастернака:
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек.
Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадёрнутых гардин…
Крандиевская оказалась вне поэтических направлений, вне групп и компаний молодых поэтов, хотя и печаталась, и выступала на поэтических вечерах. Первая книжка Крандиевской «Стихотворения» вышла в Москве, в издательстве Н. Ф. Некрасова в 1913 году.
«Литературный путь Наталии Васильевны интересен и сложен. Она начала свою поэтическую работу очень рано и очень счастливо… Я помню, как она выступала на петербургских литературных вечерах. Ее стихи волновали и трогали слушателей, а среди этих слушателей были Блок и Сологуб, и другие поэты, замечательные мастера и требовательные критики», – так отозвался о творчестве Крандиевской Самуил Маршак.
Первым мужем Крандиевской был преуспевающий адвокат Федор Акимович Волькенштейн, приятель Александра Керенского. 10 декабря 1908 года у Натальи Васильевны и Федора Акимовича родился Фефа (Федор Федорович) – умный и серьезный мальчик, будущий известный физик. В 1914 году знакомство Натальи Васильевны с молодым беллетристом Алексеем Толстым ставит точку в этом браке. Ей суждено было стать графиней Толстой, обращаться к графине следовало: «Ваше сиятельство». На этот счёт Крандиевская шутила: «До революции успела «посиять».
14 февраля 1917 года родился ее второй сын – Никита Толстой, в будущем физик (Никита Алексеевич Толстой умер в 1994 году). Еще один сын, Дмитрий, появится на свет в Берлине в начале 1923 года.
Весной 1917 года Сергей Есенин побывал в гостях у Алексея Толстого и Натальи Крандиевской, которая вспоминала: «У нас гости, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату, – Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный». Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, деловито осмотрел марку фарфора, затем перекрестился в угол на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.
Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный; льняные волосы, уложенные бабочкой на лбу; с первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин. На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы. «Что мышата на жердочке», – сказал он вдруг и улыбнулся. Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное. Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, и все вокруг рассмеялись. В передней, по-мальчишески качая мою руку после рукопожатия, Есенин сказал:
– Я к вам опять приду. Ладно?
– Приходите, – откликнулась я.
Но больше он не пришел. Это было весной 1917 года, в Москве, и только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тротуаре Курфюрстендама»… (Крандиевская-Толстая Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан // С.А.Есенин в воспоминаниях современников: В 2-х тт. – М.:ХЛ. – 1986. – Т.2).
В 1917 году Крандиевская с Толстым сначала уедут в Москву, а потом в Одессу.
В одесском издательстве «Омфалос» в 1919 году выйдут «Стихотворения Натальи Крандиевской. Книга вторая». В берлинском издательстве «Геликон» в 1922 году будет издана ее третья, лучшая и последняя при жизни книга стихов «От лукавого».
Эмиграцию Крандиевская выносила с трудом. Писала мало, хотя талантом обладала истинным. Анна Ходасевич вспоминала, что еще в 1918-м, в Москве, когда поэты, разбившись по парам, стали читать свои стихи за деньги, Владислав Фелицианович Ходасевич предпочитал Брюсову и Белому общество Крандиевской. Да и знаменитая «Элегия» Ходасевича 1921 года («Деревья Кронверкского сада / Под ветром буйно шелестят…») – прямое и бережное развитие музыкальной темы «Элегии» Крандиевской, опубликованной в ее книге 1913 года: «Брожу по ветреному саду. / Шумят багровые листы».
Встретившись с Крандиевской в России, Есенин сразу же проникся к ней тёплым чувством. В 1918 году поэт подарил Наталье Васильевне свой сборник стихотворений «Голубень».
Про берлинскую встречу с Есениным Наталья Васильевна вспоминала так: «На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом…
– Есенин! – окликнула я.
Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:
– Ух ты… Вот встреча! Сидора, смотри, кто…
– Qui est се? (Фр.: Кто это?) – спросила Айседора.
Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку. Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами… Она опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.
Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все…
Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет назад… Мальчик – Раймонд, был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears`a известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается… Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная». (Крандиевская-Толстая Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан).

Патрик, сын Айседоры Дункан, в рекламе мыла Pears’ Soap
На этом случайная берлинская уличная встреча Есенина и Крандиевской оборвалась. Можно только догадываться, как это раздосадовало поэта. Но через некоторое время Крандиевская и Есенин всё же снова увиделись. И снова воспоминания Натальи Васильевны: «В этот год Горький жил в Берлине.
– Зовите меня на Есенина, – сказал он однажды, – интересует меня этот человек.
Было решено устроить завтрак в пансионе Фишера, где мы снимали две большие меблированные комнаты… Приглашены были Айседора, Есенин и Горький. Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя…
Разговор у Есенина с Горьким, посаженных рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет, как мальчик. Горький присматривался к нему…
– За русски рэволюсс! – шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан.
– Écouter (фр.: слушайте), Горки! Я будет тансоват seulement (фр.: только) для русски рэволюсс. C`est beau (фр.: Это прекрасно), русски рэволюсс!
Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:
– Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал удачную премьеру. Это она зря.
Помолчав, он добавил:
– А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза…
После кофе Горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им. Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспомнила вечер в Москве, на Молчановке). Горькому стихи понравились, я это видела…
Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он, как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине. Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину своих шарфов, красный – накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная Менада! Зрители жались к стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?» (Крандиевская Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан).
Неловкая сцена. Не только Крандиевская, но и многие другие соотечественники поэта наблюдали нечто подобное в турне Айседоры с молодым русским мужем, которому явно было не по себе во время импровизированных выступлений хмельной подруги. И сколько распинающих» Дункан воспоминаний оставили невольные зрители! А вот у Крандиевской, свидетельницы отчаянного выступления знаменитой босоножки, несмотря на то, что Наталье наблюдать эту сцену «было тяжело», нашлись главные слова об Айседоре: «божественная», «гениальная». Крандиевская была по-человечески настоящей, потому не могла, не умела судить о людях с позиций мелкотравчатого обывателя.
«Этот день решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-Парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош. Был воскресный вечер, и нарядная скука возглавляла процессию праздных, солидных людей на улицах города. Они выступали, бережно неся на себе, как знамя благополучия, свое Sontagskleid (нем.: воскресное платье)…
За столиком в ресторане Луна-Парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке… Вокруг немецкие бюргеры пили свое законное воскресное пиво… Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым… Странный садизм лежал в основе большинства развлечений. Горькому они, видимо, не очень нравились. Он простился с нами и уехал домой.
Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно. Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, философствуя на грани скандала. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким…
Это был для меня новый Есенин. Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем пряталась не то разобиженность какая-то, не то отчаяние. Было жаль его и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер». (Крандиевская Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан).

Наталья Крандиевская с сыном
Никакого осуждения, никакой критики, одно человеческое понимание: «было жаль его». В этом вся «потаённая» Крандиевская – умная, прозорливая, наблюдательная и сердечная.
О встрече с Есениным в квартире Алексея Толстого в Берлине оставил воспоминания и Максим Горький: «Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям…».
О спутнице Есенина Горький написал: «Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно…». (Горький М. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – М.:ХЛ. – 1986. – Т. 2).
На вечере у Алексея Толстого и Натальи Крандиевской Сергей Есенин читал монолог Хлопуши:
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть?..
Я хочу видеть этого человека!..
Где он? Где? Неужель его нет?..
Горький в своих воспоминаниях об этом вечере признался, что «Есенин читал потрясающе и изумительно искренно», что «слушать его было тяжело до слез, до спазмы в горле». Писатель удивлялся: «Не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью…».
По просьбе Горького Есенин прочёл стихи о собаке.
«Я попросил его прочитать о собаке… Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных. На мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —
на его глазах тоже сверкнули слезы.

Наталья Крандиевская. Возвращение на родину. Пароход «Силезия». 1923
После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» (слова С. Н. Сергеева-Ценского), любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком…
И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта…». (Горький М. Воспоминания о Есенине).
Из воспоминаний Крандиевской мы узнаём новые детали заграничной жизни Есенина: «Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Adion» на Unter den Linden. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве, совместно с Есениным требовало денег, тем более, что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков…
Узнав, что я пишу, она (Айседора – А.Л.) усмехнулась недоверчиво:
– Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник…
Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.
– Окопались в пансиончике на Уландштрассе, – сказал он весело, – Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы, смотрите, не выдавайте нас.
Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Один Есенин, в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки… Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо… Но буря ворвалась сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре, а в столовой начался погром… Перешагнув через груды горшков и осколков, Айседора прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина…
Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета. Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов». (Крандиевская Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан).
Вот такая интермедия произошла «между Берлином и Парижем». Свидетелем её была Крандиевская, и никто, как она, не смог бы рассказать об этих событиях так, чтобы вместо «Какой ужас!» мы про себя произнесли «Бедный Серёжка!» и грустно улыбнулись…
В конце лета 1923 года старенький пароход «Шлезиен» («Силезия») доставил семью Толстого в Петроград. Сын Митя, появившийся на свет за семь месяцев до этого, вспоминал со слов родителей: «Отца сразу стали травить левые. Больше всех его ненавидел писатель Всеволод Вишневский. Однажды он, сильно выпивший, встретил отца в пивной и буквально набросился на него: «Пока мы здесь кровь проливали за советскую власть, некоторые там по Мулен Ружам прохлаждались, а теперь приехали на все готовенькое!»
Вернувшись в Россию, Крандиевская замолчала на 12 лет. Это была ее плата за возвращение на родину.

Наталья Крандиевская. Детское Село. Середина 20-х
«Творческая моя жизнь была придушена. Все силы были отданы семье и работе с мужем. Я была его секретарем, советчиком, критиком, часто просто переписчиком. Я вела иностранную корреспонденцию с издателями, …правила корректуры, заполняла декларации фининспектору…», – так писала Крандиевская в автобиографии.
Точней и резче звучит поэтическое объяснение, данное героиней ее поэмы «Дорога в Моэлан»: «К столу избранников меня не просят. / Ну что ж, сама отсюда убегу…».
А муж, знаменитый Алексей Толстой, творил. Он мог удовлетворенно заметить за чаем, что обставил самого Льва Толстого: тот из двух женщин (Софьи Андреевны и ее сестры Татьяны) слепил одну Наташу Ростову, а Алексей Николаевич из одной Натальи Васильевны – двух: Катю и Дашу из «Хождения по мукам».
«Через много лет Дмитрий Алексеевич Толстой, размышляя о судьбе отца, перешедшего на сторону Советской власти, запишет: «Конечно, он продал душу дьяволу, не то чтоб по сходной цене, а по самой дорогой. И получил сполна. Однако ж все-таки продал. Это не будет забыто. Пусть его осуждают. Но я не стану. Во-первых, потому, что вообще некрасиво выглядит сын, осуждающий умершего отца. А во-вторых, потому что он спас жизнь не только себе, но и всем нам. Я прекрасно знаю, какой была судьба детей и родственников врагов народа и от чего мы были избавлены…».
В августе 1935 года Толстой оставит семью. Жизнь с «первым советским графом» Наталье Крандиевской дорого обошлась. Если взглянуть на фотографии этих лет, то увидим в глазах этой женщины «пожилую усталость». (Чернов А. Утаённый подвиг Натальи Крандиевской // Наталья Крандиевская. Грозовой венок. – СПб. – 1992. – С.5).
О духовном разрыве с Толстым лучше всего, пожалуй, говорят строки из дневника поэтессы: «Зима 1929. Пути наши так давно слиты воедино, почему же мне все чаще кажется, что они только параллельны? Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно каждое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана. Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглядеться вокруг, погрузиться в тишину. Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: «Тишины боюсь. Тишина – как смерть». Порой удивляюсь, как же и чем мы так прочно зацепились друг за друга, мы – такие противоположные люди…». (Крандиевская Н. В. Дневник).
Видимо, уход Толстого из семьи – лучшее, что бывший граф мог для семьи сделать.
В дневнике Крандиевской можно прочесть: «24 марта 1939 г., Заречье.
Ночью думала: если поэты – люди с катастрофическими судьбами, то по образу и подобию этой неблагополучной породы людей не зарождена ли я? По-житейски это называется: всё не как у людей. Я никогда не знала, хорошо ли это или плохо, если не как у людей? Но внутренние законы, по которым я жила и поступала всегда, утрудняли, а не облегчали мой путь. Ну что же! Не грех и потрудиться на этой земле».
«Вечер 3 мая 1939 г., Заречье.
Осуществление идей часто бывает их искажением. Происходит это по вине осуществителей. Грубость и нечистоплотность человеческих рук уродует самые прекрасные вещи. Недостаточно утвердить идею в сознании. Чтобы воплотить ее в жизни, не изуродовав, надо, чтобы она вошла в плоть и кровь носителя и воплотителя своего, стала первопричиной его поступков и двигателем. Почему идеи христианства вели человечество в течение многих столетий? Потому, что идеи любви претворены были в жизнь Христом, и Его крестная смерть стала для людей жизненным символом жертвенной любви. Если бы Христос только проповедовал, не утвердив учения крестными своими муками, – разве идеи христианства были бы так понятны и дороги людям?»
Здесь мы наблюдаем жесткое понимание происходящего и возможность назвать вещи своими именами. Это позволяет поэту глядеть на происходящее из вечности.
Книга Крандиевской «В осаде» (о блокадном Ленинграде) – книга о бесстраши души. Это главная тема лирики Крандиевской, начиная с 1910-х годов. Но к личному прибавилось народное, и личное стало народным.