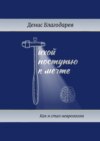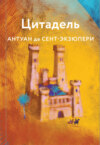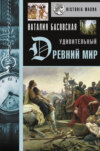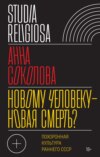Читать книгу: «Тихой поступью к мечте. Как я стал неврологом», страница 2
– Всем здрасьте, – апатично ответил больной.
– Если титульный лист истории болезни, который заботливо распечатали медсёстры, нас не обманывает, то вас зовут Евгений Алексеевич. Расскажите, Евгений Алексеевич, что привело вас к неврологу?
– Сознание теряю.
– Можно подробнее?
– Это можно… В голове становится плохо. Люди говорят, что сначала я вою как волк, а потом падаю на пол, машу руками и ногами. Когда в себя уже прихожу, чувствую, что мокрый внизу весь и щёки с языком болят ужасно. Но я всего этого не помню. Зато потом неловко становится, я всё-таки взрослый дядька.
Ольга Анатольевна вела опрос не меньше 15 минут: смотрела рефлексы, смотрела прошлые выписки. Анализ жалоб и проверка документации привели к постановке предварительного диагноза. Перед нами сидел эпилептик. Об окончательном диагнозе можно было судить только ближе к выписке, даже если в прошлых бумагах со всей уверенностью доктора ставили диагноз эпилепсии.
Мужчина оказался самым первым пациентом, в курации которого я принял косвенное участие вместе с наставником. Главным оружием в борьбе за постановку правильного диагноза было клиническое мышление врача.
Так прошёл мой первый день в качестве ординатора кафедры нервных болезней. День тяжёлый и насыщенный событиями.
VI
Последующие дни в ординатуре не сбавляли темпа. Наши пока ещё не окрепшие умы волочились следом за быстрым колесом науки.
Помимо меня и Николая, опыта у Ольги Анатольевны набирались ещё четыре ординатора второго года. В первый день знакомства с кафедрой застать ребят не получилось: они проходили практику в другой больнице. А когда вернулись – удалось узнать их имена и подружиться: Ангелина, Даша, Дима, Катя.
Рабочий день начинался с планёрного совещания в кабинете заведующего и с обхода палат. Лечащие врачи интересовались здоровьем пациентов и эффективностью лечения.
Если утром отделение жило тихой и размеренной жизнью, то с приходом обеда оживлялось – всё, как и говорил в первый день заведующий. Одни пациенты выписывались, другие поступали на их место. На ближайшие десять дней свободная койка в палате становилась для новеньких вторым домом.
Большинство пациентов оставляло приятное впечатление. Добродушность и простота помогали найти им общий язык с врачами, а это упрощало путь к постановке диагноза. С оставшейся частью пациентов договориться не получалось – ординаторы нарушали их душевный покой. Стоило нам войти в палату для сбора жалоб, как волны недоумения плыли по лбу больных. Не затем они поступили в престижную по статусу клинику при университете, чтобы лечиться у молодых врачей. Одна пожилая пациентка даже спрашивала: «Почему меня лечит не профессор?».
В ответ на такое смелое заявление, профессор кафедры в неформальной обстановке делился с нами историей:
На личном приёме в поликлинике он увидел у женщины проблему, с которой посоветовал разобраться в нашем отделении. Дело за малым – собрать документы и анализы для госпитализации. Довольная пациентка радостно говорила: «Как скажете, доктор, соберу! ВЫ будете контролировать моё лечение в отделении после госпитализации?».
«Второстепенная» роль ординатора позволяла отдельным пациентам вести себя недопустимо. Мужчина лет тридцати предложил мне однажды сходить за пиццей для него за чаевые. За всё время такой случай был единожды, возможно, пациент перепутал меня со студентом. А студенты, наоборот, отличались отзывчивостью и склонностью к «побегушкам».
Некоторые пациенты были фамильярны. Фамильярность сводилась к общению с молодым доктором в лучшем случае по имени, в худшем – на «ты». На первых порах мы и сами того желали. Дискомфортно было слышать в свой адрес величественное обращение по имени и отчеству. Вчерашние студенты, привыкшие к обывательскому отношению, на новом этапе врачебной жизни мы не хотели ничего менять.
В привычный расклад вмешивалось старшее поколение врачей, давая разумные наставления:
«Не допускайте, чтобы пациент общался с вами «на ты». Такое право есть только у вашего близкого окружения. Но даже с друзьями общайтесь при пациентах исключительно «на Вы».
Слова и фразы словно просеянная через сито мука откладывались в моей памяти, чтобы действовать впоследствии магическим образом. Переступая порог палаты очередного пациента, вместо «Здравствуйте, я ординатор Денис», я с напряжением в голосе произносил:
«Алексей Андреевич, добрый день. Я Денис Вячеславович. Вместе с лечащим врачом будем заниматься вашим лечением».
Наставления докторов не ограничивались правилами субординации. На основании собственного опыта каждый врач рассказывал другие тонкости работы с пациентами.
Одна из докторов учила нас быть щедрыми: «Не бойтесь делиться знаниями и умениями с коллегами. Пациентов больше, чем вам кажется – хватит на всех. Своё не упýстите, если действительно голова работает как надо».
До поступления в ординатуру я прочитал учебник по неврологии. Учёный рекомендовал с осторожностью прислушиваться к чужому мнению. «Врач ни в коем случае не должен сбиваться с верности своих суждений. Обязан проверять слова авторитета на личном опыте, если ошибка в диагнозе не будет стоить жизни пациенту» – так звучал основной посыл.
В качестве примера автор учебника приводил случай времён окончания Первой мировой войны.
Во главе истории – седовласый профессор, который в окружении учеников входил в палату к больному при лазарете. Картина приветствия пациента сменялась его осмотром.
С живым азартом в глазах опытный невропатолог проверял зрачковые реакции. Для начала заставлял пациента подойти к окну, где под воздействием яркого света его зрачок должен был сужаться. Потом просил пациента отойти от окна и сесть поближе. В это время морщинистой ладонью профессор по очереди прикрывал глаза пациента. Сквозь щёлочку пальцев рук в полутьме зрачок должен был расширяться.
– Все узрели как работает видимая нам часть дуги зрачкового рефлекса? – обращался он к покорным ученикам.
Ученики стояли поодаль и прислушивались к каждому слову. В правдивости никто не сомневался.
– Да, ваше благородие! – хором звучал ответ.
В норме информация из сетчатки через зрительный нерв поступает к особым центрам головного мозга. Там принимается, перерабатывается и возвращается обратно к зрачку.
Но… Никакого зрачкового рефлекса не было. Причина проста – у пациента отсутствовало глазное яблоко. Профессор нарочно обвёл учеников вокруг пальца.
Учитель переходил к доказательной части. Он по-приятельски хлопал пациента по плечу и подмигивал. Тот улыбался и делал щелбан указательным пальцем по своему глазу. В ответ раздавался глухой отзвук фарфорового протеза.
Художник постарался на славу. Внимание к деталям поражало: зрачок, роговица, радужка и склера протеза не отличались от настоящего глазного яблока.
– Вот вам и простое правило: не верьте всему, что говорят, процеживайте сквозь сито сомнения каждое слово, – говорил профессор, довольно потирая бороду.
Былое восхищение студентов сменялось неловкой паузой.
Копилка полезных советов пополнялась. Молодая сотрудница призывала пользоваться учебниками: «Помимо домашнего чтения не стесняйтесь открывать книги и перед пациентами, если появятся вопросы».
В медицине знать всё доподлинно невозможно, даже с большим опытом за плечами. Информация о дозировке препарата или варианте её доведения до оптимальной, помогали бы в ближайшей перспективе спокойно спать врачу. Посреди ночи не возникал бы в панике вопрос: «а правильное ли лечение я сегодня назначил?»
Отдельно в памяти всплывали слова сотрудника кафедры урологии. В мои студенческие годы он говорил: «Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью к коллегам, когда сам чего-то не знаю. Переступайте горделивость в медицине. Гоните её прочь, но сохраняйте при этом гордость. Горделивость и гордость – вещи разные».
Каждый совет докторов принимался ординаторами с открытой душой и сердцем. Будут ли они полезны или нет – покажет время. Времени оставалось много, ровно как и многое оставалось пока что неизведанным.
VII
Не только нравственные качества воспитывали в нас врачи и сотрудники кафедры. Часть рабочего времени отводилась и на семинарские занятия с ординаторами.
Для этого раз в месяц на кафедру приходил профессор преклонного возраста. На момент проведения занятий преподавателю исполнилось 92 года. Внешность его не отличалась от внешности людей в столь почтенном возрасте. Разве что передвигался без помощи палочки мелкими шагами на полусогнутых ногах. Как и многие из своего поколения, застал Великую Отечественную войну.
Будучи её участником, заводить разговоров на эту тему в нашем тесном кругу преподаватель не любил. О героизме профессора во время войны рассказывало его ближайшее окружение или участники митинга в честь дня Победы.
В праздничное утро во дворе университета рядом с обелиском павшим медикам собирались сотрудники, обучающиеся и ветераны. Последние сидели на стульях в окружении будущих врачей и принимали поздравления. В сверкающих орденах, медалях на груди отражались солнечные лучи и улыбки присутствующих.
Моё первое знакомство с преподавателем состоялось во времена студенчества. На четвёртом курсе практика по неврологии чередовалась с лекциями. Возможность прочитать студентам часть цикла выпала ему.
На одной из таких лекций профессор поделился в подробностях случаем из практики.
Тридцать лет назад он читал лекцию нашим ровесникам. За годы преподавания профессор научился считывать по лицам студентов в аудитории степень интереса к теме. Было бы неуважительно с их стороны смотреть в потолок, зевать или спать.
Профессор прилагал большие усилия, чтобы привлечь внимание слушателей к проблеме. Теоретическую часть лекции он разбавлял практической. Один из помощников по поручению лектора шёл в неврологическое отделение, а возвращался оттуда с пациентом по теме лекции. Речь шла об эпилепсии – на стуле рядом с трибуной сидел больной эпилепсией; о головных болях – пациентка с мигренью. На живом примере материал усваивался легче.
На одной такой лекции профессор перелистывал взглядом ли́ца студентов. Начал с галёрки, и плавно дошёл до нижних ярусов аудитории. На третьем ряду с низу внимание лектора привлекла девушка. Со стороны казалось, что она летает в облаках: глаза не выражали интереса, рот двигался по сторонам. Жевательные движения губ сменялись облизывающими, будто во рту находилась жвачка.
Профессор не стал делать публичных замечаний студентке, но запомнил овал её лица. По окончании лекции он попросил девушку остаться.
– Вам известно, что своим поведением вы ставите в неловкое положение лектора? – тактично последовал вопрос.
– Извините, я вас не понимаю… О чём вы?
– Жевательные движения… Вы совершали жевательные движения ртом. Ко всему прочему подкрепляли их облизыванием губ, – (при ближайшем рассмотрении лица девушки профессор увидел в уголках рта присохшую слюну) – А в ваших глазах я не видел ни малейшего интереса к теме лекции!
– Право же, я не делала таких вещей! Моему воспитанию это не свойственно, профессор…
В процессе личной беседы лектор усомнился в правдивости своих домыслов. Искренность сквозила в каждом слове девушки. Врачебный опыт хоть и не сразу, но твердил профессору, что у студентки имеется неврологическое отклонение.
После короткого разговора он заподозрил у неё малые эпилептические приступы. Что-то раздражало область между лобной и височной долями головного мозга. Но ни временного отключения сознания, ни причмокиваний с выделением слюны девушка не замечала.
Так студентка превратилась в пациентку. Причиной всего замеченного по итогам оказалось опухолью головного мозга. Девушку прооперировали, а потом она лечила эпилепсию под контролем профессора.
Шестнадцать лет жизни отдал профессор на заведование кафедрой невропатологии и нейрохирургии. Интересовался о́пухолями и инфекционными заболеваниями нервной системы, эпилепсией, сосудистой патологией головного мозга. И даже в столь солидном возрасте оставался верен науке.
На семинарских занятиях преподаватель охотно делился своим опытом с ординаторами. Взамен хотел чёткого понимания изученной дома темы. Где были неправы – поправлял, давая взамен толчок к реализации собственного потенциала. Своим примером он воспитал не одно поколение достойных врачей.
В кабинете для семинаров с профессором, занимая чуть ли не всю площадь стены, висела электронная топографическая карта отделов головного мозга. Специальной указкой ординатор касался нужной части мозга, а сбоку загоралась лампочка с обозначением функций участка. Интерактивным путём анатомия центральной нервной системы познавалась чуть проще.
Куда интереснее было наблюдать настоящий человеческий мозг. В шкафу рядом с топографической картой стояла стеклянная банка. Внутри находились два соединённых полушария головного мозга с прилегающими структурами. Для сохранения свойств использовался фиксирующий раствор спирта и формалина. Через банку запах не ощущался, но в реальности он напоминал мне запах маринованных грибов.
Я смотрел на головной мозг и думал о том, что несколько десятилетий назад он принадлежал живому человеку! Был ли это мозг учёного, творца или человека праздных взглядов на жизнь – этого я не знал. Как и не знал какие эмоции при жизни он испытывал. О чём думал, о чём говорил, кого любил?
Часть II.
Пока не наступит ночь
«Если сон облегчает состояние больного,
значит болезнь излечима.
Если не облегчает – болезнь смертельна».
Парацельс
Вступление
Первые два месяца, что я провёл в роли ординатора кафедры нервных болезней протекали достаточно сумбурно.
Ведение историй болезней, уроки этики, семинарские занятия переплетались между собой в один хаотичный клубок. Требовалось запомнить и разложить по полочкам полученную информацию. Колесо времени ехало неумолимо, а трудности не отступали. Порой не было даже времени, чтобы остановиться и спросить себя: кто ты? зачем ты тут?
В конце поздней осени и начале зимы нас, вчерашних студентов, отправляли на «передовую» – ночные дежурства. Стоило только зазвучать этой связке слов где-то вслух или в мыслях, как в невспаханной почве подсознания рисовалась витиеватая картина.
В центре её непременно находился молодой и неопытный врач наедине со сложными пациентами. Его обязательно зовут в другое отделение на консультацию или на дежурстве случается неотложная ситуация. И некому помочь – опытные наставники ушли по домам, им там хорошо.
На ближайшую ночь или сутки уют родного дома заменялся тесной и чужой ординаторской. Её обстановка открывалась взору лучше всего по вечерам, когда не было большого числа врачей и ординаторов.
Посредине ординаторской для экономии места были сдвинуты вплотную друг к другу четыре рабочих стола. По левую сторону, поперёк от входа, обособленно стоял пятый. Преимущества такого расположения не всегда казались выгодными. К доктору за этим столом чаще чем к другим интуитивно обращались пациенты после открытия двери. Каждый стол оснащался стульями, компьютером и полкой с книгами.
Напротив входной двери располагалось окно. На ночь оно зашторивалось, но в погожие деньки такая мера не требовалась. Щедрая охапка солнечных лучей врывалась через стекло и падала на подоконник. Букеты цветов и прочие подарки от пациентов были на нём не редкостью, ведь коллектив отделения состоял преимущественно из женщин.
Возле окна стоял длинный, но до безобразия узкий диван. В дневные часы на нём сидели врачи, в момент дежурства – спали. Для этого его покрывали накрахмаленной простынёй и сверху клали тонкую подушку в наволочке. С чистотой постельного белья дела обстояли не всегда гладко – на перестиранной и переглаженной по сто раз ткани попадались маслянистые или ржавые пятна непонятного происхождения.
Врач заступал на дежурство с санитаркой и с постовой медсестрой. Первая отвечала за чистоту отделения и гигиену тяжёлых больных. Медсестра же являлась связующим звеном в цепочке «пациент-врач». К ней первой на пост приходили жаловаться на здоровье пациенты.
Опытные медицинские сёстры ценились на вес золота. Они психологическим путём решали вопросы на доврачебном уровне одним своим присутствием в палате больного. Сначала измеряли артериальное давление, а перед выходом говорили: «Ой, какое у вас хорошее давление сегодня, Тамара Ивановна!». Подобно шкале ртутного термометра при горячке, самочувствие больных стремительно росло вверх. Помощь доктора уже не требовалась.
Обострение жалоб пациентов по непонятному стечению обстоятельств происходило на стыке глубокого вечера и зарождающейся ночи. Того самого времени, когда в душе у молодого дежуранта зарождалась тревога, из-за которой уснуть было не так просто.
В знак доброго злорадства, чтобы подогреть тревогу, я подшучивал над друзьями. Отсылал из дома на мобильный телефон дежуранта постер из фильма «Пока не наступит ночь4». Дальнейшего распространения шутка не получила – к ней относились равнодушно.
Ночные дежурства редко обходились без стука медсестры в дверь ординаторской. Тогда врач просыпался и шёл разбираться со здоровьем пациента. Чаще всего у пожилых людей понималось артериальное давление, которое держалось с вечера. Типичный диалог врача и больного ночью чаще всего сводился к следующему:
«Скажите, пожалуйста, почему вы не сообщали о длительном эпизоде повышения давления своему врачу, пока он был в отделении?».
«Голубчик, для меня это не в диковинку. Я думала пройдёт…»
Не проходило. И только таблетка от давления или капельница с магнезией спасали ситуацию.
Второй по популярности повод обратиться к дежурному врачу или медсестре ночью – несмолкаемая боль.
Несмолкаемая боль
В одной из палат круглосуточного пребывания лежал мужчина 50 лет.
Не меньше трёх месяцев его мучали нестерпимые боли в спине. Виной тому – грыжа диска в поясничном отделе позвоночника. Нейрохирурги рекомендовали оперативное лечение – мужчина отказывался. Своим пребыванием в отделении он давал болям последний шанс отступить. В душе́ теплилась крохотная надежда на выздоровление без операции.
Капельницы и инъекции заглушали боль на время. Не проходило и пары часов, как мужчина просил новые и новые обезболивающие средства. Пожелания относительно них сохранялись и для ночных дежурантов. Тихое дыхание ночи утопало в трелли телефонного звонка в кармане врача.
– Опять он… – слышался на том конце провода заспанный голос постовой медсестры, – приходите.
Не сложно было догадаться кому и в какой палате требуется помощь ночью. Мужчина просил её каждые три часа, вплоть до наступления утра.
На своём дежурстве мой друг в ответ на просьбу больного отвечал:
«Вы понимаете, что чрезмерный приём обезболивающих сопряжён с риском развития язвы желудка?»
Он всё понимал, но отказаться от лекарств не мог. И вот опять ночную темноту палаты освещал прикроватный ночник тусклым оранжевым свечением. Вместе с медсестрой мы стояли у койки мужчины, отбрасывая пляшущие тени на стенах. Устраивать «театр теней» и делать на стене из кистей рук «собачку» нам было некогда. Пациент сидел с грустным видом и держался за поясницу в ожидании помощи.
– Сделайте что-нибудь со мной, болит…
Медсестра погружала в ягодицу мужчины очередную иглу, а в это время из дальнего угла палаты доносился храп. Поистине счастлив тот, кто лишается страданий с приходом сна…
На утренней планёрке и дня не обходилось без доклада дежурившего врача о вызове в палату.
– Нужно что-то делать, – говорило врачебное сообщество.
– Сегодня поменяю дозировки препаратов и схему приёма антиконвульсантов5, – отвечал лечащий врач.
Как бы врач не менял схему приёма препарата, что не назначал – ничего не работало. Без облегчения симптоматики пациента выписали из отделения на радость дежурантам.
О себе мужчина дал знать спустя месяц. Он посвежел, лицо выражало желание жить, а рука держала скреплённые бумажные листы. В них нейрохирургом сообщался диагноз после успешного удаления грыжи межпозвоночного диска.
– Доктор, мне стало лучше! Теперь я другой человек, – сказал он и с улыбкой на лице вышел в коридор. От былого прихрамывания не осталось и следа.
По возвращению в кабинет мужчина держал в руках букет цветов.
– Это вам за все страдания, – говорил он и продолжал улыбаться.
Срочно гормон!
Изменение привычных условий неизбежно ведёт к приспособлению к этим изменениям.
Со временем ночные дежурства не казались такими уж страшными. Некоторые дежурившие по двое на первых порах ординаторы постепенно отказывались от этой затеи. Было веселее, когда рядом присутствовало дружеское плечо, но личное пространство никто не отменял.
Один из докторов ютился в четыре погибели в кресле, что стояло в «предбаннике». Спящий здесь ординатор пребывал в невыгодных условиях по сравнению со спящим товарищем в ординаторской. Кто и где будет спать ближайшую ночь решалось жребием.
«Предбанник» был куда меньших размеров по сравнению с ординаторской. По правую сторону от него располагался туалет, по левую – кабинет заведующего. И без того тесная обстановка разбавлялась личными шкафчиками для одежды докторов и общим шкафом с постельными принадлежностями для дежурантов. Несмотря на наличие поблизости туалета, в «предбаннике» всегда приятно пахло женскими духами, молекулы которых где-то оседали и напоминали о себе. Но общая атмосфера этой маленькой комнаты всё равно действовала гнетущим образом, а риск брать удар первым посреди ночи от вошедшего в ординаторскую пациента или медсестры не прибавлял радости.
Дежурить вдвоём было весело, но не всегда надёжно.
***
В субботу я томился дома от безделья. В этот день на суточное дежурство заступила моя подруга. Чтобы найти себе сколько-нибудь полезное занятие, я отправился к ней в отделение на подмогу.
Мы встретились, размеренно общались в ординаторской, шутили. Задушевные разговоры подкреплялись чаем вприкуску со сладостями. Совсем не вовремя зазвонил дежурный телефон в кармане у подруги.
– Доктор, ситуация срочная, девочка задыхается. Палата 211, – сказала медсестра, прежде чем положить трубку.
Подруга взяла молоточек, я достал из шкафа тонометр. Мы побежали на вызов в палату 211. В голове витал вопрос: «Почему девочка задыхается?».
Помощь требовалась двадцатилетней девушке. Она сидела на койке с «бегающими» глазами, рядом стояла и не находила себе от волнения места мать. Здесь же стояла медсестра.
– Что случилось? – быстрее подруги спросил я у собравшихся.
На вопрос первой ответила мать:
– Сделайте что-нибудь! Сначала у дочери ослаб голос, теперь ей тяжело дышать. У неё случился миастенический криз*6!
Грубых предвестников миастенического криза у девушки не было: она держала голову прямо, слюна вырабатывалась как и раньше, проблем при глотании не возникало. Настораживали два момента: голос при разговоре казался слабым, «потухшим». Грудная клетка при дыхании прерывисто поднималась и опускалась в темпе ниже среднего.
Подруга измерила девушке артериальное давление, провела осмотр с помощью молоточка. Пристальное внимание уделила мышечной силе, которая сохранилась в полном объёме.
Что я, что подруга, находились в замешательстве. Думы следовали за думами, как волна за волной в море, но света на происходящее не проливали. Неотложной ситуации не наблюдалось, а что произошло с девушкой оставалось непонятно. Требовалось решить ситуацию без посторонних.
– Сейчас вернёмся, – сказал я, прежде чем покинуть палату. Следом вышли медсестра и подруга.
Мы шагали в сторону процедурной, где хранился лист назначений на пациентку. Информация о лекарствах помогла бы пролить свет на тёмную историю. Едва подруга достала общую папку с назначениями, как из той же палаты с криком выбежала мать девушки.
– Срочно дексаметазон7*, она снова задыхается! – на весь коридор кричала женщина. – У неё миастенический криз!
Дежурившая медсестра относилась к категории персонала «старой закалки». Без промедлений она достала из шкафчика процедурной комнаты ампулу, и тут же наполнила шприц лекарством. Когда всё было готово, медсестра окинула нас взглядом. В её взгляде выражался немой вопрос: «Делаем укол или нет?».
Уже и не вспомнить, что мы, обуреваемые страхом за жизнь пациентки, ответили медсестре. Первое, о чём думалось: «Что делать с девушкой, которая лежала на койке и жадно втягивала грудной клеткой и ртом воздух подобно рыбе, выброшенной на берег?». Одно помню точно: мы побежали на первый этаж в отделение реанимации. Ведь главная опасность криза при миастении – человек может задохнуться, что уже и начало происходить. А потому мог потребоваться аппарат искусственной вентиляции лёгких.
Обратно вместе с нами на второй этаж неврологического отделения прибежал реаниматолог. Девушку быстро положили на каталку и повезли в сторону лифта. Реаниматолог, я, подруга и подоспевшая на помощь санитарка везли каталку под переглядывания вышедших из палат зевак. Маму к процессу сопровождения не допустили. Она побежала вниз по лестнице в сторону отделения реанимации. Попытки медсестры разрядить ситуацию не увенчались успехом.
Отделение реанимации в прямом смысле ожидало нас с распахнутыми дверями. При помощи санитаров пациентку переложили на койку рядом с аппаратом ИВЛ. Персонал неврологического отделения попросили выйти – своё дело мы сделали. Оставалось дождаться пока приедут заведующий неврологии с лечащим врачом и в связи с экстренной ситуацией написать переводной эпикриз в истории болезни.
Атмосфера напряжённости и страха постепенно отошли на второй план. Никакой опасности больше не было. А как иначе – пациентка в надёжных руках реаниматологов.
Спустя пару часов после произошедшего я шёл по коридору первого этажа. Навстречу шагала мать девушки.
Испепеляющим взглядом она посмотрела в мою сторону и сказала:
– Врачей как вы быть не должно!
Мне ничего не оставалось, как потупить глаза в пол. Хоть подруга после случившегося долго корила себя за беспомощность, нашей вины не было. Мы досконально осмотрели девушку, но криз оказался проворнее нас.
Бесплатный фрагмент закончился.