Ближний круг российских императоров
Текст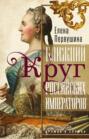


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 54,90 ₽
- Объем: 670 стр. 78 иллюстраций
- Жанр: биографии и мемуары, история России, популярно об истории
Никита Зотов, совсем иной «князь-папа». Один из первых учителей юного Петра, позже в качестве дьяка участвовал в переговорах с крымским ханом Мурад-Гиреем и в заключении Бахчисарайского мира (1680 г.), в Азовских походах, но не как воин, а как «ближний советник и ближней канцелярии генерал-президент». И по отзыву самого Петра: «…был в непрестанных трудах письменных распрашиванием многих языков и иными делами».

Н. Зотов
Много лет служил главой Печатного приказа (1701–1717 гг.), ближайшим советником и генерал-президентом Ближней канцелярии. В 1702–1703 гг. наблюдал за укреплением Шлиссельбурга и возведением одного из бастионов (так называемый «Зотов бастион») Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Позже возведенный в графское достоинство, в 1711 г. назначен государственным фискалом, взяв на себя «сие дело, чтобы никто от службы не ухоронился и прочего худа не чинил». О нем отзывались как о человеке с недостаточным образованием, не слишком широкого кругозора, однако честном, дельном и расторопном. Петр знал, что всегда может на него положиться, и не однажды награждал его за усердие.
Петр Иванович Бутурлин происходил из знатнейшего боярского рода. Его дед, Василий Васильевич Бутурлин, был дипломатом при царе Алексее Михайловиче. Сам Бутурлин начинал службу стольником при юном Петре. Служба эта требовала от него самых разных качеств, ставила перед нелегким выбором. Так, 24 июня 1718 г. Бутурлин в числе других подписал смертный приговор царевичу Алексею Петровичу.
Но более всего Бутурлин стал известен как «князь-папа» благодаря шутовской свадьбе со вдовой Зотова 10 сентября 1721 г., она стала частью торжественного праздника в честь Ништадтского мира. Ее описывает юнкер Фридрих-Вильгельм Берхгольц, бывший в то время в Петербурге в свите герцога Гольштейн-Готторпского – жениха старшей дочери Петра и Екатерины – Анны Петровны. Описывает с подробностями, которые могут показаться даже излишними: «10-го начался большой маскарад, который должен был продолжаться целую неделю, и в этот же день праздновалась свадьба князя-папы со вдовою его предместника, которая целый год не соглашалась выходить за него, но теперь должна была повиноваться воле царя. Было приказано, чтобы сегодня, по сигнальному выстрелу из пушки, все маски собрались по ту сторону реки на площади, которая вся была устлана досками, положенными на бревна, потому что место там очень болотисто и не вымощено. Площадь эта находится перед Сенатом и церковью Св. Троицы, имея с одной стороны здания художеств, с другой – крепость, с третьей – здания всех коллегий, а с четвертой – Неву. Посредине ее стоит упомянутая церковь Св. Троицы, а перед Сенатом возвышается большая деревянная пирамида, воздвигнутая в память отнятия у шведов, в 1714 году, четырех фрегатов, в котором царь сам участвовал, за что и был произведен князем-кесарем в вице-адмиралы. <…> В этот день в крепости не только подняли большой праздничный флаг (из желтой материи, с изображением черного двуглавого орла), но и палили, в знак торжества, из пушек, как и на галерах, стоявших по реке. Между тем все маски, в плащах, съехались на сборное место, и пока особо назначенные маршалы разделяли и расставляли их по группам в том порядке, в каком они должны были следовать друг за другом, Их Величества, его высочество и знатнейшие из вельмож находились у обедни в Троицкой церкви, где совершилось и бракосочетание князя-папы, которого венчали в полном его костюме. Когда же, по окончании этой церемонии, Их Величества со всеми прочими вышли из церкви, сам царь, как было условлено наперед, ударил в барабан (Его Величество представлял корабельного барабанщика и уж, конечно, не жалел старой телячьей кожи инструмента, будучи мастером своего дела и начав, как известно, военную службу с этой должности); все маски разом сбросили плащи, и площадь запестрела разнообразнейшими костюмами. <…> Царь, одетый, как сказано, голландским матросом или французским крестьянином и в то же время корабельным барабанщиком, имел через плечо черную бархатную, обшитую серебром перевязь, на которой висел барабан, и исполнял свое дело превосходно. Перед ним шли три трубача, одетые арабами, с белыми повязками на головах, в белых фартуках и в костюмах, обложенных серебряным галуном, а возле него три другие барабанщика, именно генерал-лейтенант Бутурлин, генерал-майор Чернышев и гвардии майор Мамонов, из которых оба первые были одеты как Его Величество. За ними следовал князь-кесарь в костюме древних царей, т. е. в бархатной мантии, подбитой горностаем, в золотой короне и со скипетром в руке, окруженный толпою слуг в старинной русской одежде. Царица, заключавшая со всеми дамами процессию, была одета голландскою или фризскою крестьянкой – в душегрейке и юбке из черного бархата, обложенных красной тафтой, в простом чепце из голландского полотна, и держала под рукою небольшую корзинку. Этот костюм ей очень шел. Перед нею шли ее гобоисты и три камер-юнкера, а по обеим сторонам 8 арабов в индейской одежде из черного бархата и с большими цветами на головах. За государыней следовали две девицы Нарышкины, одетые точно так, как она, а за ними все дамы, именно сперва придворные, также в крестьянских платьях, но не из бархата, а из белого полотна и тафты, красиво обшитых красными, зелеными и желтыми лентами, потом остальные, переодетые пастушками, нимфами, негритянками, монахинями, арлекинами, скарамушами… <…> За группой царицы, как за царем, шла княгиня-кесарша Ромодановская в костюме древних цариц, т. е. в длинной красной бархатной мантии, отороченной золотом, и в короне из драгоценных камней и жемчуга. <…> Его королевское высочество, наш герцог, был со своей группой в костюме французских виноградарей, в шелковых фуфайках и панталонах разных цветов, красиво обложенных лентами. Шляпы у них были обтянуты тафтой и обвиты вокруг тульи лозами с виноградными кистями из воска. Его высочество, в костюме розового цвета, шел один впереди, отличаясь от своей группы тем, что имел под тафтяной фуфайкой короткий парчовый камзол, входивший в панталоны, и что вместо шнурков и лент платье его было обшито серебряным галуном. Кроме того, он держал в руке виноградный серп. За ним шла его свита в три ряда, по три человека в каждом, именно первый ряд в зеленых костюмах, второй – в желтых, третий – в голубых. Ленты на тафтяных фуфайках были у них также разноцветные, но нашиты у всех одинаково, шляпы же одного цвета. Группу эту заключал г. фон Альфельд в костюме темно-красного цвета, обшитом, как и у герцога, галуном, но очень узким. Первый ряд составляли тайный советник Клауссенгейм, Бонде и Ранцау, второй – тайный советник Бассевич, Штенфлихт и Сальдерн, третий – тайный советник Геспен, Лорх и Штамке. Мы, прочие, были на этот раз только зрителями, потому что свита герцога не могла быть больше. Группа его высочества была одной из лучших. Маски, следовавшие за нею, отличались красивыми и самыми разнообразными костюмами. Одни были одеты как гамбургские бургомистры в их полном наряде из черного бархата (между ними находился и князь Меншиков); другие, именно гвардейские офицеры, как римские воины, в размалеванных латах, в шлемах и с цветами на головах; третьи как турки, индейцы, испанцы… некоторые, как государственные министры, в шелковых мантиях и больших париках, или как венецианские nobili (дворяне); наконец, многие были наряжены жидами (здешние купцы), корабельщиками, рудокопами и другими ремесленниками. Самыми странными были князь-папа, из рода Бутурлиных, и коллегия кардиналов в их полном наряде. Все они величайшие и развратнейшие пьяницы, но между ними есть некоторые из хороших фамилий. Коллегия эта и глава ее, так называемый князь-папа, имеют свой особый устав и должны всякий день напиваться допьяна пивом, водкой и вином. Как скоро один из ее членов умирает, на место его тотчас, со многими церемониями, избирается другой отчаянный пьяница. Поводом к учреждению ее царем был, говорят, слишком распространившийся между его подданными, особенно между знатными лицами, порок пьянства, который он хотел осмеять, и вместе с тем предостеречь последних от позора. <…> Но другие думают, что царь насмехается над папою и его кардиналами, тем более что он, как рассказывают, не щадит и своего духовенства, приказывая ежегодно перед постом исполнять одну смешную церемонию: в прежние времена в Москве всякий год в Вербное воскресенье бывала особенная процессия, в которой патриарх ехал верхом, а царь вел лошадь его за поводья через весь город. Вместо всего этого бывает теперь совершенно другая церемония: в тот же день князь-папа с своими кардиналами ездит по всему городу и делает визиты верхом на волах или ослах, или в санях, в которые запрягают свиней, медведей или козлов. Я думаю скорее, что Его Величество имел в виду первую причину. Конечно, он может иметь тут еще и другую, скрытую цель, потому что как государь мудрый всячески заботится о благе своего народа и всеми мерами старается искоренять в нем старые грубые предрассудки».
Берхгольц описывает как маски во главе с Бахусом, с царем и царицей отправились пировать в специально построенную для этого залу, как потом молодоженов увели в брачный покой: «Брачная комната находилась в упомянутой широкой и большой деревянной пирамиде, стоящей перед домом Сената. Внутри ее нарочно осветили свечами, а ложе молодых обложили хмелем и обставили кругом бочками, наполненными вином, пивом и водкой. В постели новобрачные, в присутствии царя, должны были еще раз пить водку из сосудов, имевших форму partium genitalium[11] (для мужа – женского, для жены – мужского), притом довольно больших. Затем их оставили одних; но в пирамиде были дыры, в которые можно было видеть, что делали молодые в своем опьянении». Не забывает упомянуть, что «вечером все дома в городе были иллюминованы, и царь приказал, чтоб это продолжалось во все время маскарада».
Рассказывает и о том, как на следующий день перевозили новобрачных обратно через Неву, в дом Бутурлина на чудо-плоте: «Машина, на которой переехали через реку князь-папа и кардиналы, была особенного, странного изобретения. Сделан был плот из пустых, но хорошо закупоренных бочек, связанных по две вместе. Все они, в известном расстоянии одни от других, составляли шесть пар. Сверху на каждой паре больших бочек были прикреплены посредине еще бочки поменьше или ушаты, на которых сидели верхом кардиналы, крепко привязанные, чтоб не могли упасть в воду. В этом виде они плыли один за другим, как гуси. Перед ними ехал большой пивной котел с широким дощатым бортом снаружи, поставленный также на пустые бочки, чтоб лучше держался на воде, и привязанный канатами и веревками к задним бочкам, на которых сидели кардиналы. В этом-то котле, наполненном крепким пивом, плавал князь-папа в большой деревянной чаше, как в лодке, так что видна была почти одна только его голова. И он, и кардиналы дрожали от страха, хотя совершенно напрасно, потому что приняты были все меры для их безопасности. Впереди всей машины красовалось большое вырезанное из дерева морское чудовище, и на нем сидел верхом являвшийся на маскараде Нептун с своим трезубцем, которым он повертывал иногда князя-папу в его котле. Сзади на борту котла, на особой бочке, сидел Бахус и беспрестанно черпал пиво, в котором плавал папа, немало сердившийся на обоих своих соседей. Все эти бочки, большие и малые, влеклись несколькими лодками, причем кардиналы производили страшный шум коровьими рогами, в которые должны были постоянно трубить. Когда князь-папа хотел выйти из своего котла на берег, несколько человек, нарочно подосланных царем, как бы желая помочь ему, окунули его совсем с чашею в пиво, за что он страшно рассердился и немилосердно бранил царя, которому не оставлял ни на грош совести, очень хорошо поняв, что был выкупан в пиве по его приказанию. После того все маски отправились в Почтовый дом, где пили и пировали до позднего вечера».
Это подробнейшее описание продиктовано желанием запечатлеть зрелище, которое никогда не повторится. Интересно, что оно не вызывает у скромного лютеранина никакого протеста. Возможно, ему по душе глумление над римским Папой. А может он чувствует потребность окунуться в карнавальный разгул, чтобы хотя бы ненадолго отстраниться от совсем не веселой и не карнавальной придворной жизни. Видимо, чтобы вершить в обычное рабочее время жестокие, но нужные, невиданные еще в России, дела, людям нужно было карнавальное забвение, в котором вывернутый наизнанку мир представлялся смешным, а не страшным.
Умер П.И. Бутурлин 22 августа (2 сентября) 1723 г. и похоронен 28 августа на кладбище при церкви Св. Сампсония Странноприимца.
Анастасия Петровна Голицына. Входили в «Собор» и женщины. Об одной из них – Анне Еремеевне Пашковой, тетке денщика Петра и супруге двух «князь-пап» упоминает Берхгольц. Другой была «князь-игуменья» Дарья Гавриловна Ржевская, жена стольника Ивана Ивановича Ржевского.

А.П. Голицына
После нее «князь-игуменьей» стала Анастасия Голицына, которая по рождению принадлежала к семье князей Прозоровских, ее отец в завещании царя Алексея Михайловича был определен в воспитатели «старшего царя» – малолетнего царя Ивана. По материнской линии Анастасия Петровна – внучка известного окольничего Федора Ртищева, любимца царя Алексея Михайловича. В противостоянии с царевной Софьей ее отец поддержал Петра и тем обеспечил дочери приязнь и покровительство молодого царя. В письмах к Петру она называла его «батюшкой», а он ее – «дочерью» (обычные обращения к царю бояр и дворян ближнего круга), но иногда и «дочкой-бочкой» (возможно, намекая на ее любовь к хмельным напиткам). 12 апреля 1684 г. Настасья стала супругой князя Ивана Алексеевича Голицына.
На свадьбе Петра I и Екатерины, состоявшейся в 1712 г., княгиня Голицына удостоена чести сидеть за столом невесты. В 1717 г. получила титул «князь-игуменьи». Веселая, болтливая «дочка-бочка» прекрасно вписалась во «Всешутейший собор». Но скоро счастье ей изменило, всего через год Настасья оказалась под следствием по делу царевича Алексея, приговорена к битью батогами, но в 1722 г. ее вернули ко Двору. В 1724 г. во время коронации Екатерины назначена статс-дамой. В 1725 г. породнилась с императорской семьей, женив своего старшего сына Федора на кузине Петра – Марии Львовне Нарышкиной. После смерти Екатерины покинула Двор, жила в Москве, скончалась 10 марта 1729 г. и похоронена в московском Богоявленском монастыре. Судьба Настасьи прекрасно показывает, несколько переменчивое счастье людей, входивших в ближний круг Петра.
Федор Юрьевич Ромодановский, еще один «князь-папа» – «князь-кесарь», чье имя, в обычные дни внушало страх. Не даром Петр, уехав в Европу с Великим посольством, послал из Курляндии своему «князь-кесарю» в подарок… машину для отрубания голов, некий прообраз гильотины, который сам Петр называл «мамурою». Ромодановский отвечал: «Писал Ты, господине, ко мне в своем письме, чтоб к тебе отписать, которая от тебя прислана мамура ко мне Московским людем недобрым в подарки, и тою мамурою учинен опыт над крестьянином Покровского села, что прежь сего бывало Рупцово, отсечена голова за то, что он зарезал посацкого человека; пытан трожды и в том винился, что зарезал с умыслу. Другова человека своего, Сидорку серебряника, который был в Московском разбое с Ваською Зверевым, тою ж мамурою указ учинен. А еще многие такие ж той мамуре подлежат, только еще указ не учинен, и к сей почте к ведомости не поспело. Буду о том к тебе впредь писать К. Ф. Р.».
Жестокость Ромодановского легендарна. Историк XIX в. Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский писал о нем: «Князь Федор Юрьевич Ромодановский был человек нрава жестокого, не знал, как милуют. Вид его, взор, голос вселял в других ужас. Воров Ромодановский вешал за ребра». Но насколько эта жестокость казалась аномальной его современникам?

Ф.Ю. Ромодановский
Федор Юрьевич начинал службу еще при царе Алексее, также он принадлежал к старинному боярскому роду, входившему в «Бархатную книгу», состоял в родстве с Рюриковичами. Отец Федора Юрьевича – Юрий Иванович пользовался неограниченным доверием Царя Алексея Михайловича и был его любимцем и другом. Когда в 1672 г. праздновалось рождение Петра Алексеевича, то в числе десяти дворян, приглашенных к «родинному столу», в Грановитой палате оказался и Федор Юрьевич, ему пожаловали звание стольника, в 1678 г. – первый воевода, храбро воевал с турками, где зарекомендовал себя хорошим командиром.
О доверии к Ромодановскому юного Петра лучше всего говорит тот факт, что именно ему молодой царь доверил охрану царевны Софьи после подавления стрелецкого бунта. А о том, что Петр относился к Ромодановскому дружески, свидетельствует его обращение в письмазх: «Siir, Min Her Kenich, Ваше Пресветлейшество, Ваше Величество…» А подписывал их Петр так: «Засим отдаюсь в покров щедрот Ваших, всегдашний раб пресветлейшего Вашего Величества бомбардир Piter», «Его Пресветлейшества, генералиссимуса князя Федора Юрьевича бомбардир», «under Knech Piter», «Aldach Iv Knecht», «холоп Ваш Kaptein Piter».
Разумеется, шутки подобного рода Петр мог позволить себе лишь с тем, кто не злоупотребит его доверием. И действительно – Ромодановский в ответных письмах никогда не позволял себе лишнего, писал исключительно по делу, и лишь изредка отвечал шуткой на шутку, заканчивая письмо словами: «Последней пьяной Фетка Чемоданов, воспоминая Вас за пипкою, челом бьет», или делая, выговор «капитану Питеру» за то, что тот поздравил его с праздником Пасхи заодно с другими. Петр немедленно отвечал: «Изволишь писать про вину мою, что я ваши государские лица вместе написал с иными, и в том прошу прощения, потому что корабельщики, наши братья, в чинах неискусны».
Петр присвоил Ромодановскому звание адмирала, тот и здесь показал себя человеком «зело смелый к войне, а паче к водяному пути» – именно так отозвался о нем царь.
Ромодановский входил в Московский совет, которому Петр поручил управление страной в 1697 г., уезжая с Великим посольством в европейское турне, также он назначается Наместником в Москве.
Федору Юрьевичу довелось усмирять стрелецкий бунт. В письмах из Амстердама Петр упрекал Ромодановского в излишней мягкости, писал ему: «Зело радуемся; только зело мне печально и досадно на тебя, для чего ты сего дела в розыск не вступил – Бог тебя судит!.. Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Мало ль живет, что почты пропадают? А ce в ту пору была и половодь. Неколи ничего делать с такою трусостью! – Но тут же оговаривался: – Пожалуй, не осердись: воистинно от болезни сердца писал».
Петр, отказавшись от поездки в Венецию, спешил в Москву, а Ромодановский по его приказу начал «розыск», т. е. дознание и казни. Автор статьи, посвященной Ромодановскому в «Русском биографическом словаре» Половцова, А. Петров пишет: «Князь Федор Юрьевич превосходил других свирепостью розыска в такой же степени, как и был вообще суровее прочих: в изыскании истины он был упрям и строг даже до бесчеловечия. Во время казней Ромодановский собственноручно одним и тем же лезвием отсек 4 стрельцам головы».
Вскоре Ромодановский становится главой Преображенского приказа, ведавшего вначале делами, как политическими, так и полицейскими, но позже сосредоточившимся на разыскании крамолы. Указом 1702 г. Петр повелевал присылать на дознание Ромодановскому всех людей, желавших донести о «Государевом слове и деле».
Преображенский приказ, изначально созданный как канцелярия государя для управления Преображенским и Семеновским полками, получил гораздо более широкие полномочия. С 1697 г. его чиновники получили исключительное право следствия и суда по политическим преступлениям. Позже, в 1718 г., в Петербурге организована Тайная канцелярия, стоявшая выше всех государственных учреждений, кроме Императорского кабинета и Сената.
Петр верил Ромодановскому безоговорочно и прощал ему приверженность к старым московским боярским обычаям, от которых Федор Юрьевич не спешил отказаться, хотя и подтрунивал над ними, в свою очередь, угождая нраву Петра. Так известно, что в 1702 г., на еще одной шутовской свадьбе, на этот раз – шута Шанского, Ромодановский был одет московским царем и исполнял свою роль с подобающей важностью.
Умер князь Федор Юрьевич Ромодановский в преклонном возрасте, 17 сентября 1717 г., место его погребения неизвестно.
Яков Федорович Долгорукий – совсем иного склада, еще один из «пестунов» Петра, знавших его с детства.
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий…
Долгорукие, или Долгоруковы, – фамилия древняя и славная. Долгорукие состояли в родстве с Романовыми, их семейство занимало почетное место в Бархатной книге – родословной книге наиболее знатных боярских и дворянских фамилий царской России, которая велась с 1687 г.
Долгорукий родился в 1639 г. и старше Петра более чем на 30 лет. Свою службу Яков Федорович начал при царе Алексее Михайловиче. На свадьбе царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной в числе поезжан в 1672 г. пожалован стряпчим, а через три года назначен комнатным стольником при Петре I.
Далее служил воеводой под Казанью, а после смерти Федора Михайловича во время восстания стрельцов остался верным Петру. В 1687 г. князья Долгорукий и Мышецкий отправлены советом при царевне Софье послами во Францию и Испанию искать союзников в планируемой войне с Турцией. Миссия оказалась нелегкой, и поведение князя в ней как нельзя лучше показывает, за что ценил его позже Петр.

Я.Ф. Долгорукий
Вот что рассказывает М.В. Имшенецкая, автор статьи о Долгоруком в «Русском биографическом словаре» Половцова: «После первых переговоров с министром иностранных дел французский король велел сказать послам, что он понял, в чем дело, дальнейшие переговоры считает излишними и ответную грамоту пришлет им. Но Долгоруков объявил, что он, посол царский, не примет ответной грамоты иначе, как из рук короля, так как все государи отдают всегда ответную грамоту послам сами. Поведение Долгорукова вызвало сильный гнев Людовика, и он обещал учинить послам великое бесчестье и указал их отпустить назад до французского рубежа. Долгоруков на это заявил, что не только королевский гнев, но и сама смерть не может их принудить взять грамоту у себя на дворе. Отказались послы принять и королевские подарки, хотя им грозили, в случае нежелания взять подарки добровольно, по повелению короля положить их им в возы силою. Долгоруков стоял на своем: “королевский гнев страшен нам по вине”, говорил он: “А без вины вовсе не страшен, должны мы прежде всего взирать на повеление государей своих”. И французы уступили. Послам не удалось склонить Людовика вступить в союз против турок, они добились только обещания короля не мешать союзниками. При отпуске послов снова возникло затруднение: в грамоте царям было пропущено – “Великим Государям”. Послы требовали, чтобы грамота была переписана. Им отказали; тогда послы не взяли грамоты и не хотели брать даров королевских. Мастера церемоний говорили, что королевскому величеству ни от кого таких досадительств не было, как от Долгорукова. В Испании послы встретили почетный прием, и король Испании очень хорошо отзывался о благоразумном поведении Долгорукова».
Из Франции князь привез юному Петру подарок – астролябию и другие геодезические инструменты, но объяснить, как с ней надо обращаться, не мог, из-за чего к царевичу и пригласили в Измайлово Франца Тиммермана. Как позже писал сам Петр: «Тиммерман, увидев, сказал те же слова, что князь говорил о них, и что он употреблять их умеет, к чему я гораздо пристал с охотою учиться геометрии и фортификации».
Вступив на престол, Петр назначил Долгорукова возглавлять Московский судный приказ. Князь участвовал в Азовских походах, в Нарвской битве, где попал в плен вместе с еще девятью русскими генералами, содержался в скверных условиях в Ревеле, потом в Стокгольме. Пленных держали впроголодь, постоянно оскорбляли, с каждым новым успехом русской армии жизнь их становилась все тяжелее. Наконец их повезли для обмена в Финляндию, и по дороге Долгорукому удалось бежать. Вот как он сам описывает свое спасение: «Всемилосердный Бог, предстательством Богоматери, дал нам, узникам, благой случай и бесстрашное дерзновение, что мы могли капитана и солдат, которые нас провожали, пометать в корабли под палубу и ружье их отнять, и, подняв якорь, июня 3 дня, пошли в свой путь и ехали тем морем 120 миль и, не доехав до Стокгольма 10 миль, поворотили на остров Дого. И шкипер, и штырман знали пути до Стокгольма, а от Стокгольма через Балтийское море ничего не знали и никогда там не бывали и карт морских с собою не имели, и то море переехали мы без всякого ведения, управляемые древним бедственно плавающим кормщиком великим отцем Николаем, и на который остров намерились – на самое то место оный кормщик нас управил».
Вернувшись на родину, Я.Ф. Долгорукий тут же получил новое назначение – он становится главой Военного комиссариатства, а в 1712 г. вскоре занял среди сенаторов первое место, в 1719 г. назначен президентом Ревизион-коллегии.
Вот одна из историй о князе-правдорубе, которую пересказывает Татищев в своей «Истории Российской», а за ним Владимир Ключевский в «Курсе русской истории»: «Дело было в 1717 г., когда блеснула надежда на скорое окончание тяжкой войны. Сидя за столом на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, об его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: “В твоем порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть”. Потом, подошедши к князю Я.Ф. Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в Сенате, и, став за его стулом, говорил ему: “Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен; а теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду”. Долгорукий отвечал: “Изволь, государь, присесть, а я подумаю”. Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так: “На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом – твой отец.
Три главные дела у царей: первое – внутренняя расправа и правосудие; это ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело – военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако, хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать: конец войны прямо нам это покажет. Третье дело – устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить”. Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: “Благий рабе верный! В мале был ecи мне верен, над многими тя поставлю”. Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, – так заканчивает свой рассказ Татищев, – и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».
Яков Федорович умер летом 1720 г. и, по преданию, похоронен на Васильевском острове в Петербурге, в ограде собора Св. Андрея Первозванного.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽