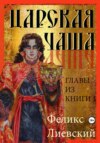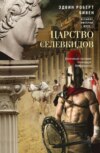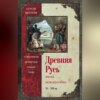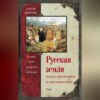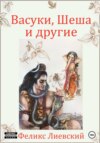Читать книгу: «Царская чаша. Книга 2.1», страница 5
– Вот! Вот, Великий государь, что этот… умник делает, пускай все послушают, и, может, впрок пойдёт и ему, и … – он сурово оглядел школу, – всем вам!
Павел сидел, уставивши очи свои, большие серые лучистые, в доску той иконки, что писал до этого, а Федька поражался несказанно теперь и другому его удивляющему свойству – великолепнейшему, но совершенно чуждому такой его нежной наружности голосу… И заметил, что Иоанн, призванный наставником в главные судьи сейчас над означенным Павлом, взирает с явным интересом, ожидая объяснений. И даже полюбопытствовал:
– Чем же прогневил он тебя, наставник?
– Ох, нет сил наших с этим чудищем справиться! Может хоть ты, ежели не устыдишь, то повелишь ему таланту своего не губить глупым упрямством!
– Да в чём повинен?
Павел замер, ни жив ни мёртв. Наставник же отвечал государю, а сам изничтожал парня суровым взором из-под нахмуренных бровей.
– Что есть икона? Ответствуй!
– Канон…
– А что есть Канон? – Канон есть Послушание! Послушание – вот добродетель иконописца, старание повторить пример, что даётся в лицевых подлинниках, безо всяких своих выкрутасов и сочинений! Несчётно раз это сказано, кажется, всеми, и почтенными Перфилием и Феофаном, вам, и вдолблено должно быть намертво, а ты что творишь?! Он, Великий государь, ведь живописец от Всевышнего, у нас мастера иные такого не умеют, как он! А сидит опять в доличниках7, тогда как давно уж мог бы сам, без всякой подсказки и помощи, любой лик выписать! А потому сидит, что своеволие допускает непростительное в писание!
– Ах вон оно что! И каково же это своеволие? Неужто вроде новгородского?
Вопрос был с подвохом, так как, и в самом деле, о новгородской школе толки среди знающих и сведущих шли превосходные, якобы, образы их исполнены искусства непревзойдённого, тонкого, воистину за душу берущего, и даже псковская школа с ними не сравнится, и московская. Но притом допускалось тамошним начальством привносить в сакральные сюжеты всякие новшества, мастерами от себя разумно добавляемые, и не просто допускалось, а поощрялось, и тем новгородское письмо от прочих сразу отличить было можно. Однако и это различие приписывалось к всегдашнему желанию новгородского митрополита и его двора выделиться, обойти прочих, выказать своё превосходство, а это уже Иоанном с настороженностью принималось… Хоть сам он, прекрасно владея пониманием искусства этого, не раз у новгородцев заказывал образа. В Лавре же, как и в Москве, был другой подход.
– Нет, что ты, государь, не такое, но вот, скажем, – и видно было, до чего же устал наставник мучиться с талантливым учеником своим, и, дорожа им, последнее средство применить хочет к его вразумлению, напрямую о грехе его государю рассказывая, – скажем, пишет Святителя Николая, власы, и движки кладёт, где волны, и бороду тоже, а вместо пяти – семь добавляет! Вот к чему такое, ты что, сосчитать не в силах?! Или опись черт у архангела делает, да так брови выведет со зрачками, что не понять, про что архангел вещает, мысли какие-то там получаются через то непонятные вовсе, да ещё вместо медовых, карих, возьмёт очи синие напишет. Или на уста, где кармину всего чуть плеснуть надо, наведёт красным. Зачем, спрашиваю, такое? А красивее так, говорит, и всё тут, и хоть убей его. Вот и пишет теперь позём да горки, хоть там нечего ввернуть! Уфф, государь, повели ему одуматься. Не лупить же, в самом деле! И краски переводит ведь…
– Отчего не лупить? Надо, коли не понимает, – Иоанн приблизился, и Федька с ним, а своевольный Павел совсем, кажется, дышать перестал. Как и его наставник, отчего-то на Федьку теперь особо пристально взирая, а после – на доску начатой иконы перед Павлом. Туда же смотрел не без любопытства Иоанн, и бровь его медленно приподнялась.
– Вот, что сделал, ирод… – пробормотал Самойлов. – Рефтью8, рефтью, сказано же, кудри ангельские пиши! А ты чем?! Отвечай!
– Рефтью движки свистят9… Ангел-хранитель молодой, а так сивый получается… – тем же роскошным басом, но робко, заявил Павел, и ещё больше сжался.
– А вот этим, суриком по черни, не свистят, значит! И очи… опять какие! Где ты такие видал, да ещё с зеленью, да ещё жжёнкой точно обведённые?!
Павел молчал, низко опустив голову, а Иоанн и наставник, и любой, кто глянул бы на его Ангела-Хранителя, тот час признал бы в нём стоящего рядом кравчего…
А наставник в весьма сложное положение угодил. С одной стороны, писание ликов с живого человека было преступлением почти что, а уж на каноническом образе и подавно, такое бы сразу в печь… С другой же, явно был примером тут избран ближний царёв любимец, и как тут с его ликом поступать. Ну и доски прекрасной жаль, чтобы в печь. И видя, что Иоанн, изумляясь, не гневается, завершил, тяжко выдохнув:
– Счистить всё, и заново как положено написать.
Павел быстро решительно кивнул, и доску сунул куда-то под стол…
– А что, Павел, петь ты можешь? Может, напрасно ты его, учитель, неволишь, а призвание его – в певчих быть. Этакий голос… богатый! Отдашь мне в артель его?
Наставник от неожиданности растерялся, но келарь со старцами оживились, спеша государю угодить такой малостью.
– Понятно, конечно, что сил ты в него вложил уже порядком, но, право слово, мы с ним лучше управимся. Да, Федя?
Тот кивнул с усмешкой – вот и ещё подарочек себе нашёл Иоанн. И честно сказать, сам бы послушал, как будет этот бас в обрамлении мягких кудрей херувимских его Каноны выводить, вот уж правда – сам Архистратиг. И хотелось бы ещё на ту досочку глянуть. Точно в зеркало, но столь чудное и занятное…
Не известно, что подумалось самому Павлу, хотелось ли ему срываться из дома и ехать в Москву, а после – и в Слободу, да ещё другому ремеслу обучаться, быть может, но наставнику ничего не оставалось, как за него царя благодарить, и был он, кажется, и раздосадован и рад одновременно.
Федька ободряюще ему улыбнулся и подмигнул. Павел совсем смутился, порозовел, и таким вот событием было окончено посещение государем иконописной школы Лавры.
На воздухе дышалось легко и привольно. Лавра казалась небольшим городом, так много тут было народу всякого… Снаружи их сразу окружила охрана, опричные и стрельцы, и всё пошло по заведённому порядку. Нелицеприятный разговор Иоанн решил отложить за завтра, видимо.
Сегодня были его беседы с теми старцами. Федька слушал, слушал, почти засыпая, про то, что Ад писать проще, чем Рай – испугать ум проще, страх быстрее и глубже нам понятен, всем понятны ужасы мучений и зло, ибо есть мы человеки, грешные. Проще поразиться бедствию и зрелищам страха, чем восхитить истинно Светом Красоты… Поскольку, тогда видишь райский свет, когда подлинное зрение обретаешь, через греховность земную смертную переступивши, возвысившись над нею. Трудно неимоверно, но неизбежно для всякой души, стремящейся к Богу в себе.
Вот опять то же всё, лениво шевелились мысли, и хоть правда, да попробуй же ты эту проклятую греховность забороть!
«Здесь мы все поодиночке, – говорил старец Перфилий, – а там, в Эдеме – едины. А как едиными стать, немногие знают в душе. Вот потому Рая так мало написано пригодного…».
Отчего-то Федька начал злиться. Подумалось, что вот жил-жил этот Перфилий, поди, как мог и хотел, нагрешил изрядно, после в монастырь подался, умудрённый и от бытия смертного утомившийся, ему хорошо вещать про святость, и про единение, и про то, как надо! Опять же, давайте так все по монастырям разбежимся, чего ж ещё делать… Остановив себя на совсем уж крамольных и вовсе неблагостных суждениях, он прислушался. «Света же во тьму прелагати не тщуся, и сладкое горькое не прозываю, – повторил Иоанн то, чем извечно оправдывал свои иной раз обидные многим резкие слова, – только этим и могу творить правду свою. А люди чаще среднего не видят, путают всё…»
– Люди видят неправедность и тьму мира, – кивал старец Феофан, – и либо бегут от него, либо впускают в себя и уравнивают свою мерзость с наружной. Иначе непосильна тяжесть эта… Непосильна многим!
Это было умно, и Федька понял, что тем старец очень польстил Иоанну, выведя на извечную его неразрешимую тропу и признавая невозможность его бегства от мира почти что подвигом… Не прямо, но и достаточно ясно.
– Федя! Поди к нам поближе. Есть что, чтобы тебе прояснить хотелось? Беседа с мудрыми – неоценимая удача. Поведай!
Это было неожиданно. И среди множества вопросов, которые он не решился бы задать никаким мудрым никогда, всплыл один, в общем-то, невинный, давно его мучивший.
– «И настанет эра благополучия. И откроются клады по всей земле и разбогатеют все. И будут нищие как бояре, а бояре – как цари. «И будет радость великая и веселье», – выходит, что в злате счастье и есть? Не сказано же, что все как один бедны станут, и через то духовно объединятся в Райском бытии… Иначе так и писано было бы, станут все как блаженные, а иные – святые. Но однако же про назначения новые архиепископские там, про дороги и мосты Иерусалимские, новых храмов воздвижение и прочие благоустройства, что усилий и средств требуют немалых, без злата никак10. Про что же это?
Пока старцы собирались с мыслями для ответа на каверзу такую, Федька решил не останавливаться.
– А вот ещё, совсем уж непонятное, отцы мои! – «Затем вознесутся на небо все праведники, которые были убиты антихристом. А Ангел Господень подожжёт землю, и сгорит земля на девять локтей в глубину. И сгорят все животные и растения». Если Ангел Господень захочет покарать род людской за грехи, то зачем он всех тварей убить хочет? Разве они виновны так же, как люди? И уж тем паче – травы и злаки земные. За что их сжигать?
Старцы стали нараспев что-то отвечать, будто даже с радостью уцепившись за последний Федькин вопрос, пространно и важно, но Федька уже не слушал, поняв, что мысли они не проясняют, а лишь запутывают всё ещё больше. Как если бы взялись несколько человек узнать, что в ларце спрятано, но вместо того, чтобы отворить его, друг у друга отбирают, внешне осматривают и снова прячут. Иоанн же пощипывал мочку уха, глядя то на него, то на старцев, с невыразимым полунасмешливым, полугорестным выражением в чертах.
Назавтра также примерно, красиво и ладно, вокруг да около разглагольствовал архимандрит Кирилл, и об грамотах Старицкого, и о том, с чего бы по возвращении из ссылки, в этом году, князь Иван Ромодановский отказал свою вотчину в Дмитрове его монастырю. И на упоминание государем весьма щекотливого обстоятельства о якобы тех посланиях самого Сергия Радонежского, хранимых в Лавре как святыни, о передаче им Лавре во владение сёл и деревень. А на самом деле, никак не мог преподобный Сергий в бытность такого отдаривать, за неимением богатств столь великих, а всё это – поздние какие-то передачи, от лиц, совсем иных. Федька не знал, откуда известно государю такое тайное дело, и ожидал смущения хоть малого в ответ, но тот, как ни в чём не бывало, только кивал согласно, поводя спокойно холёными мягкими на вид руками с перстнями. Да, что поделаешь, страшились и страшатся иные гнева его, государева, как прежде – гнева батюшки его великого князя Василия, а не можем же мы никому в таком благом желании отказывать, да и с чего бы, если лица эти о своей душе так пекутся. Да и миру польза! Есть с чего благодетельствовать при нужде… А что в Сергиевы одеяния сие облечено, мощами его освещено – так тоже во благо, перед всем народом веру в святую Троицу укрепляем только, пусть всем будет ведомо, как следует почитать её обители на земле, сам Сергий-основатель если так радеет. Федька едва не приствистнул от открытости этакой. Архимандрит же продолжал плавно про то, что труден срединный путь, однако предпочтительнее прочих (а ведь то же Иоанну митрополит говорит, опять же отметил Федька), и мудрые ему следуют и тем побеждают. Потому житийные все писания людей значимых и знаменитых нужны, но исполненные не суетного изложения несовершенств судеб и поступков смертных, а величия очищенного от всего этого мелкого и неважного, а подчас и вредного, наноса, и вознесённые до сияния земного подвига. Как иначе торжество веры хранить и преумножать? Только на примерах такой самоотверженности и служения полного, может, для мирянина и недосягаемого, но зато верно на души и воображение всех воздействущего. А мы, смиренные посредники Божии, служа здесь, через то и власть кесаря нашего земного всецело поддержать сумеем в его начинаниях благих.
И что тут было возразить. Когда сам Иоанн, трон и царский свой титул закрепляя, изыскал изначальное происхождение своего рода от императора Августа, и сам, кажется, поверил в это…
Елизарово.
Несколькими днями позже.
Март шёл пятый день, и сразу вокруг, и в небе, и под ногами, взялось всё сырым придыханием весны, неровным пока что, и точно больным, себя не понимающим теплом ясными полуднями. Сверху печёт, а снизу морозит, и правда, как не хотелось выпрыгнуть из опостылевших ста одёжек, а пока что могло это обернуться худо. Но так ласково, забываясь будто, ластилось к щекам, делая душистым всё, чего касалось, набирающее силу солнышко, так звенело капелью вокруг, с любой застрехи и крыши, и ветви древесной, и по проталинам первым, так сладко бился в душу ветерок, исполненный тонкими вздохами оттаивающей земли, что плакать хотелось. Княжна рада была хоть немного постоять так в полном волнения покое, подышать этим и размяться от надоевшей несказанно дороги… От Сергиева Посада до Переславля пришлось дважды остановиться, и однажды – прямо в шатрах, при кострах, и зрелище этого бесконечного пёстрого сборища, постоянно занятого обустройством отдыха, готовки еды и всяческого обихаживания, поразило её. Не сказать что это было легко и удобно, в сравнении с бытом теремным, но ей во всю дорогу думать ни о чём не приходилось – свекровь и провожатые заботились о ней, как о ребёнке. Сходили на поклон царице Марии, к её большому шатру, сияющему на солнце великолепием шитых золотом каём, пологов с кистями и покрывал, и окружённому палатками поменьше, теремных её боярынь и многочисленных прислужниц. Царица взглянула ровно, но с вниманием, оценивая будто, молвила что-то приветливое. «Хороша! – подумалось княжне, – и молода ещё так… А в облике столько горделивости, надменности даже. Верно, когда злится – грозна делается!». Вспоминались рассказы княжны Марьи, про дела царицыной половины, и про то, что ей теперь на её празднествах по возможности бывать придётся. Ну что ж.
Муж навещал их на таких привалах, и это мукой было, но и сладостью особой. При всех не обнимешься, так только, взором восликнуть, как скучаешь, что ждёшь не дождёшься уже, когда же… Но, ответно видя и его сдержанное нетерпение, и как красуется он нарочно при ней на коне, у всех на виду, опять же, улыбаясь лучезарно только ей одной, забывала про все тяготы, дыханье замирало, то сжималось всё, то отпускало, и летело сердце вскачь, и несчётно раз она эти переглядки переживала после, и тогда часы пути бесконечного растворялись незаметно.
В Переславле опять было то же, что в Ларве: колокола, митрополит со знатью, люд разношёрстный… И Федя, постоянно при государе. И опять их с Ариной Ивановной куда-то селили, с канителью положенной, но тут уже безмятежней прошло, оживлённо и по-свойски – ведь то был дом и двор их родни, Плещевых-Очиных. Дом был полон родичей, она узнала молодых сватов, и дружку, Захара, конечно же. С его молодой женой познакомилась, и с младенцем успела понянчиться малость, которого ей на колени посадили как залог скорого материнства. Опять уловив в себе укол неприятного беспокойства, что с того жуткого разговора матери теперь муторно возникал всё чаще… Потом, уже в сумерках, она упала на перину, разоблачённая своими девушками, с переплетёнными заново косами, и уснула в задорной тревожности, что вот скоро уже всё-всё опять для неё изменится…
Отъехавши ото всех ещё до рассвета, их маленький, в сравнении с общим, поезд свернул на меньшую дорогу – через посады, пролески и поля, мимо деревень и отдельно разбросанных хуторов, на Елизарово, которого достичь хотелось к истечению этого дня, одним переходом… Но прежде, в полной тьме за возками, быстро, жарко, крепко наобнимались они с мужем, и его поцелуи и немногие слова пылали на ней и уносили от земли долго ещё, пока ехал он рядом с возком до морозного ясного, синего с алым, восхода, время от времени переговариваясь с кем-то из провожатых, и после… Она задремала, привалившись к тоже дремлющей в своей шубе и пуховых шалях Арине Ивановне.
Теперь решили передохнуть малое время, костерок развести и соорудить чего-то горячего, подкрепить силы. И дневное заигрывание совсем ранней весны разморило негой и одновременно взбодрило. И княжна переменила большую тяжёлую, но очень тёплую, до пят, шубищу волчью на недавний подарочек Федин – шубку милую на векошьих11 черевах, с бобровым пухом, огненной тафты поверху и о десяти корольковых пуговицах. Так пылающий светло-алым, с отблесками золотистого, цвет отбелял и без того молочное свечение её лица, что княжна не могла на себя налюбоваться и всё ждала, когда мороз сникнет, чтоб в ней появиться.
Здесь довелось им ото всех отлучиться вдоль опушки пролеска, пробраться по мокро скрипящему, нетронутому, но обречённому снегу от обочины и немного скрыться за блестящими от талой влаги, не пробудившимися пока тонкими тёмными веточками и стволиками молодого березняка.
– Уж скоро будем, скоро, потерпи немного… – уговаривал он, прижимая к губам и согревая дыханием её руки. А где-то в кустах поодаль звенела синица, весело и пронзительно, и сверкало всё, слепило глаза сиянием неба и солнечной белизны.
– Да мне хоть бы всю жизнь так… Ты рядом – и не надо больше ничего!
Шапку сорвав, он сгрёб её в объятие, и снова они целовались… Покуда не окликнул их Петька, но и тут не сразу вышло прекратить.
– Нет, всю жизнь я так не смогу! – смехом отвечал он. И, обернувшись на братнин зов: – Идём сейчас!
У костерка топлались все, но был он больше не для согрева, а для кипячения в котелке иван-чаю. Арина Ивановна растворила там немного мёду, который всегда брала в дальнюю дорогу, и Настасья большим ковшом разливала всем поочерёдно по кружкам. Таня с Нюшей передавали их стоящим дальше. А охотников отведать горяченького ароматного питья было немало – с ними отправились новоселье молодых справить Андрей и Григорием Плещеевы, Захар Очин, Вася Сицкий, которого по случаю отпустили от царевича представить родню княжны, Чёботов, за которого Федька сам попросил, да его расторопный стремянный (один на всех, для вспоможения, так как Арсения своего Федька неохотно отдавал для услуг другим, разве по крайней нужде), ну и Терентий Петькин тоже, конечно, домой возвращался. Да четверо людей со двора воеводы Басманова, что правили возками и санями со скарбом.
Все смеялись – Чёботов излагал какую-то историю, подправляя перед огнём кусок бересты, сберегая тем его от сквознячка, и попивая с удовольствием из своей кружки. Петька, палочкой, старался тоже, подпихивал суховея и закапывая в его горящую нишу тлеющий трут.
Остальные расположились около, и расступились, пропуская молодых в круг, им тот час передали дымящиеся сладким паром кружки. Кони, укрытые длинными толстыми шерстяными покрывалами, переминались, жуя в навесных торбах свою овсяную трапезу. Сенька, отойдя к коню господина, потягивал питьё, и оглаживал чёрную глянцевую морду Арты, что постоянно косился в лес и фыркал. Чуял зверя, видимо…
– Я про Завьялова, помнишь его, Фёдор Алексеич?.. Чудак такой. Так вот, расположились мы, стало быть, спешились, коней в кустах оставили, а сами дальше по следу идти, по-тихому, хотим. Зайцы, они хитрые, заразы! Путают след… Ну, я смотрю, он повод на куст кинул, и всё. Ужасно упрямый, я ему – вяжи лучше, лишний узел не помеха. А он – так сойдёт, у меня мерин смирный. И вот, все охотятся, а он бегает, коня своего ищет!
Дружный смех опять поддержал его рассказ о незадачливом Завьялове.
– И как, нашёл?
– Нашёл, но прежде часа четыре кряду по всем буеракам сам скакал.
– А как тебе новый-то, Григорий Матвеич, под тобой сейчас который? Мы же тебе его на Рождество у Ахметки сторговали?
– Умеешь ты, Фёдор Алексеич, коли надо, и бесу все руки вывернуть! – Чёботов глянул на него искристо и ласково. – Хороший конь, злой, как чёрт, сам за зайцами гоняется, не хуже пса! Козу убил…
Все опять засмеялись, приняв это за шутку, и представляя, как конь Чёботова, повода не слыша, сам гонит зайца и хочет укусить. Но оказалось, что такое и впрямь случилось, и пришлось Чёботову хозяину козы той возмещать урон.
– С таким на волков хорошо, бесстрашный и до крови жадный, – закончил он, и улыбнулся, и добавил со всегдашней на людях к Федьке дружеской шутливостью, – как ты, Фёдор Алексеич. По себе выбрал-то! А мне с ним мучайся теперь…
– Да полно, Григорий Матвеич, про моего ли ты Федю сейчас?! А я так вижу беззлобного и безвредного…
– Точно, Арина Ивановна, так и есть. Гляньте! – он кивнул на своего гнедого. – Вон, стоит, жуёт, смиренный такой. И не подумаешь…
И опять посмеялись, конечно. Но кое-кто здесь знал доподлинно, что в шутке Чёботова изрядно нешутейного.
Где-то на двух третях пути отправил Федька до дома гонцов, чтоб побыстрее добрались и там наказали Фролу с ключницей готовить для гостей всё надлежащее. И баню, само собою. Все две. Поехать вызывались Петка с Терентием, мол, чего тут осталось, погода стойкая, и они уж столько раз доказали за этот поход, что вполне справляются, и с конями, и с тяготами. А волки если, так при них и сабля, и топор, и саадак, и ножей всяких есть. Но брат наотрез отказал их одних пускать, да и Арине Ивановне такое испытание ни к чему было. Отпустил с ними троих боевых мужиков воеводы, а санями и возками править посадил Арсения, Васю Сицкого и Настасью, оказавшуюся умелой в обращении с конной парой в упряжи.
И вот, на лучезарной, по-весеннему уже просторной, но всё ещё довольно ранней заре вечерней, выбрались они на последний поворот, и с холма, как и всегда, открылось трепетное сердцу, с детства знакомое в мелочах зрелище – дымки печные родного села. Белый стройный шатёр их церкви был уже ясно различим, в окружении усадебных крыш и купин древесных. И навстречу им рысцой, по неширокой, кое-как проторенной колее, приближался Фрол, от его мохнатого конька шёл пар, и был он навеселе, взволнованно крича издали приветственное слово наконец-то вернувшейся домой хозяйке. Прежде всего, конечно же, ей… На время этой встречи, почти что на пороге уже, все приостановились. Обнимались, раскланивались и знакомились наскоро. Федьке захотелось, чтобы княжна увидела сейчас, заведомо, на подступах, своё новое обиталище, и его отчий дом. Он помог ей выйти, и указал на раскинувшуюся впереди, на соседнем холме, вотчину. На маковку Никитской…
Княжна от волнения ничего не могла сказать. Так всё показалось ей красиво… Прекрасно… И она прижала к лицу край шали, и смотрела в живое вечереющее быстро остывающее марево новой жизни сквозь пелену невольных слёз.
Встречать их к околице высыпало полно сельчан. Всем хотелось посмотреть на молодую, переполох лёгкий случился. Арина Ивановна, хоть и устала ужасно, а так была счастлива снова дома оказаться, что объявила всем назавтра, на новоселие само, пива поставить, пусть староста столов наставит против двора, а сейчас просила сельчан почитать и жаловать с хозяйкой наравне дочь её вновьобретённую Варвару Васильевну, да по домам расходиться.
Послали мальчишку к батюшке, звать назавтра к полудню к столу, и жилище молодых наново освятить.
Отдавши таким образом долги общине, занялись собой. Всё закипело, в сумерках распрягались и разгружались, хозяйка с помощниками устраивали прибывших, на кухне гремело и шумело, на конюшне, возле бань, в гостевом доме, в тереме всём возжигались лампы, столы выдвигались на середину горниц, хозяйской и дворовой, и столпотворению как будто конца было не видать. И только новый присторой стоял, во тьму изнутри погружённый, тихо ожидая… Проводя жену, придерживая за плечи охранительно, мимо, к крыльцу родительскому, он указал на тёмные окна вверху, в уборе резных ставень, и всё в ней опять затрепетало. То был её теремный покой. Ещё совсем пустой, свежий, необжитый, но уже желанный и, кажется, любимый.
У крыльца нянюшка Марфуша, плача, подавала молодым чарочки и хлеба-соли, а Арина Ивановна своею Богородицей благословляла. Про шубу под ноги тоже не забыли, конечно. Свадебные картины живо встали, княжна, новый приток сил ощутив, пожалела, что не утром они прибыли, и нельзя сегодня же в их новом доме оказаться, и заночевать там… Голову кружило от того, что впервые в жизни будет она полноправной хозяйкой собственного терема, и ходить там сможет, где и когда ей захочется, а больше всего забирало, что тут же, внизу, в её доме, будет их с мужем ложе, и опять же, ни перед кем не будет она отчёт держать.
Только теперь вполне осознала она, каков подарок сделан свёкрами им, и не потому что в их тереме места бы не оказалось (там и правда было не слишком-то просторно, довольно даже скромно, в сравнении с большущей княжеской усадьбой в Верхнем Стану), но из особой, как видно, доброй воли их. И с расчётом, несомненно, на пополнение семьи. С ужасом представила она, что было бы, задержись государь в Лавре ещё хоть на день… Тогда бы точно до поста не поспели, а так день в день под начало. А начало завтра уже! Княжна зарделась, опять поддавшись этим мыслям, но уже прилюдно, и побыстрее прогнала их тем, что живо вслушиваться стала в общий разговор за столом.
А перед тем была быстрая баня. Все устали, и потому, после лёгкого угощения с чарочками прямо с подносов, в сенях, омовение случилось не по всем банным канонам, а лишь чтобы с дороги облагородиться и согреться как следует.
Но всем пришлось молодых дожидаться… Арина Ивановна, рассаживая всех за столом, послав проверить их нянюшку, приняла её доклад на ушко и гостям велела не чиниться, угощаться, пить и отдыхать, и сама обнесла их полными чашами доброго вина. Сваты развеселились, байки про «дело молодое» загорелись над столом, и возвращение праздновать упрашивать никого было не надо. Сказала Кузьме Кузьмичу отнести того же вина в людскую, к тамошнему столу. Ключница и Настасья только головами качали на такое хозяйкино расточительство… Да она всегда добра была, не жадная, и если бы не пригляд верного управляющего, всё бы так и пораздарила. А он сидел, попивая наливочку, что с хозяйкою они вместе творили, то в скатерть под собою глядя, то, изредка, на боярыню, когда та к кому-то из гостей обращалась, и чему-то улыбался с нежностью, да вздыхал, поглаживая короткую жёсткую курчавую седеющую бороду и изредка вставляя слово в общий гомон. Марья Фролова только молчала да вздыхала про себя. Вернулась, ведьма, теперь опять мужика дома не увидишь… Что б ей в Москве-то не остаться!
И хотелось бы им поскорее, стол не держать, да не вышло.
Чуть не с порога бани ноги подкашивались, дыханье занималось, и на него не глядя, быстро скидывала она всё, до исподней рубахи, на лавку в предбаннике. Раздумывала только, справится ли сейчас с косами одна, может, завтра с утра прополоскать с девками поскорее, да подсушиться хоть успеть до новоселья, а сейчас уж так оставить, а то надолго это всё затянется. Но вспомнила, что есть у неё кому помочь, плели уж вместе, и не раз… И в жар безо всякого банного пара кинуло. А он рядом, на другой лавке, только беззастенчиво, донага сразу, разоблачился, и краем ока заметила она силу его ожидания долгого…
А там, опять же в спешке, и дрожи в руках, и улыбках мгновенных, омывались, порознь…
Она только завершала отирать мокрый саженный золотистый хвост чистым полотенцем, перехватывая в кулаке, выдохлась, и за спину закинула, поняв, что всё это время он смотрел за ней. Давно уж с собой закончив…
– Поди, душа моя, полей чистым… – позвал он, и подав ей кадушечку с прохладной водой. Не много, так, чтоб ей легко поднять над ним было. И встал под поток, глаза прикрывши в блаженстве. Она лила ему на голову, и не смотреть ниже старалась, но вода иссякла, кадушечку он из рук её принял и отставил, и промокался поданным ею полотенцем. А она опять не смотрела, только всё равно некуда было деть глаз, тесно тут…
Он сам притянул, обнял, прижимаясь всем собой.
– Скучал по мне?..
– Не видишь разве…
– Не вижу, сумрачно тут…
– Так глаза для этого не надобны… Когда руки есть… И прочее…
– Ах!
– Неужто и теперь не видишь?..
– Скучал, значит?.. – слегка задыхающийся голос её плавно блуждает блаженством, как и руки…
– Возможно ли лукавить… в таком?..
– Откуда мне знать!
– Ах ты!.. Ну, так я ещё покажу!
На густо, как периной, устланом сухотравьем и застеленном простынью полоке они уже не беседовали словами, а только телами, понимая друг друга вполне, дыханием и стонами в едином объятии.
Острое дивное это услаждение охватило и задушило, до тьмы в очах и мягкого звона в ушах, и грохоте слитном крови. И невесомостью во всём прочем, когда их вознесло до остановки сердец – и схлынуло… Наконец, и это мучение угомонилась.
Тихо так стало, и поскипывало что-то, потрескивало, остывая, вокруг, шуршало будто бы по углам, у печи, и душистое тепло обволакивало, баюкая…
– Идём… А то я уснуть боюсь.
– Идём, – шёпотом отвечала она, гладя его плечи и спину, и сама едва не улетая в сон.
Тут им в дверь постучали, и голос Марфуши позвал к столу…
– Мы скоро, нянюшка! – отозвался он, всё ещё слегка задыхаясь, потихоньку поднимаясь над ней, освобождая от своей тяжести. – Волосы только заплесть!
– Не выйдет скоро, боюсь… – она села рядом, с улыбкой усталого блаженства разбирая успевшие спутаться влажные долгие пряди…
– А ты не плети, так будь, платом убрусным всё укроем – и довольно.
В банных сенях они выпили из ковшика доброго мёду, принимаясь одеваться в чистое, и поскорее накидывать полушубки и в валенки обуваться. Страшно вдруг есть захотелось. А снаружи совсем уж тьма пала.
– Как на венчании?!
– Ну да!
– Разве можно так?.. За столом-то общим?
Он усмехнулся, точно она – маленькая, неразумная, и, притянув к себе, поцеловал в лоб нежно.
– Я дозволяю – стало быть, можно.
Переночевали они на постели родительской. Наутро разбужены были дружно оживившимся домом, собачьим заливистым лаем, незлобным, вызванным прибытием многих перед двором, чьи наперебой весело кричащие голоса, и мужицкие и бабьи, создавали чувство праздника. И опять ей свадьба припомнилась, и как её этот шум и гам тогда пугал и отвращал. А сейчас она ему рада была, улыбалась. Снова всё – в их честь!
Разошлись по своим половинам – убраться к молитве. Внизу, в кухне, готовилось последнее перед Великим постом добротное простое застолье, а на дворе выстроились длинные столы – для обещанного боярыней сельчанам пивного угощения.
Бесплатный фрагмент закончился.