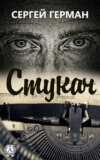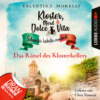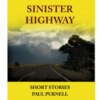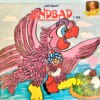Читать книгу: «Охотники за новостями», страница 3
ГЛАВА 5
Ночью шёл сильный дождь и проснувшийся город отражался в лужах, похожих на лежащие под ногами зеркала. Их обилие и глубина говорили не столько о количестве выпавших осадков, сколько о плачевном состоянии тротуаров и дорог.
Город отражался в лужах фрагментами – в одной проплыл завитый бубликом собачий хвост, в другой прошагали серые с тонким красным кантом милицейские брюки, в третьем дрожала задняя часть остановившегося тролейбуса со открывающейся гармошкой дверью.
«Мандарины, свежие мандарины!» – с мегрельским акцентом предлагал свой товар прохожим парень лет двадцати пяти. Перед ним прямо на асфальте расположился большой чемодан, из тех какие берут с собой в отпуск к морю многодетные семьи. Нетрудно было сделать вывод, что чемодан заполнен мандаринами «прибывшими» ночным поездом из Западной Грузии. В предновогодние дни Тбилиси заполнялся продавцами мандаринов, торопящихся заработать в предпразничном ажиотаже.
«Тебе мандарины не нужны, брат?», – спросил он меня, когда я проходил мимо.
– Зачем мне твои мандарины?! – огрызнулся я, открывая торг.
– Подожди, подожди! Не уходи. Я даром почти отдаю, только приехал, понимаешь, а ты первый покупатель, знаешь правила?
Правила я конечно знал. В уличной и рыночной торговле считалось, что первый покупатель приносит… удачу или неудачу и с ним практически не торговались.
Тем не менее, правила требовали от меня держать марку:
– Кислятина небось?
– Э-э-э! Зачем такие вещи говоришь, брат. Ты попробуй сначала. Мандарины слаще мёда! Слаще сахара! Слаще варенья из белой черешни. Знаешь варенье из белой черешни?
– А зачем мне мандарины, которые слаще варенья из белой черешни. Захочу варенья – поем варенья. Мандарины должны быть кислыми, – коварно сказал я, стараясь его провести.
Но он не поддался:
– Хочешь кислого – лимоны купи, а мои мандарины сладкие, как варенье из белой черешни. Знаешь варенье из белой черешни? Не знаешь, наверное,
– Я то знаю варенье из белой черешни, а ты сам знаешь? – не уступил я инициативы.
– Э-э то! Я как не знаю?!
– А вместо косточек туда кусочки грецкого ореха кладёте? У вас в Самегрело орехи растут? Да вы и косточки из черешни не вытаскиваете небось, прямо с косточками варите варенье!
– Раийо?! Мы не знаем орех?! Вай ме! С ума меня сводишь? Мы не знаем орех?! – полез он в бутылку, что мне и требовалось.
– А ну дай мандарин, посмотрю, – быстро сказал я, резко протянув руку, меняя тему, чтобы застать его врасплох.
– Даже попробуй на здоровье, Обрати внимание, как легко очистить, сами выпрыгивают из шкурки, чувствуют хорошего человека, здороваются, «как дела» – говорят,
Присев на корточки, пранишка щёлкнул замком чемодана. Крышка откинулась и показались аккуратные ряды крупных мандарин. Они были с веточками, усеянными тугими тёмно-зелёными листьями. Листки выглядели совершенно свежими, и значит мандарины, ещё вчера висели на дереве.
Вид спелых, наполненных сладким с кислинкой соком плодов вызвал желание погрузить в мандарин зубы, упиваясь его ароматом и вкусом, жевать сочную мякоть, утирая ладонью губы. Во рту пересохло и я потянулся к протягиваемому мне крупному мандарину с зелёным бочком.
Но раньше, чем я успел его взять в руки, на мандарин упала тень. Чьи-то руки захлопнули крышку чемодана, и на неё встал черный полуботинок, выше которого виднелся синий хлопчатобумажный носок, покрытый серой милицейской штаниной с тонким красным кантом, возможно тот самый, отражение которого я приметил чуть раньше в луже.
Увлёкшись торговыми делами мы оба не заметили, как сзади к нам неслышно подошли три милиционера. Самый толстый и наглый из них носил погоны старшего лейтенанта и был начальником. Он то и поставил ногу на чемодан,
да так и остался стоять с гордым видом словно сделал что-то путное.
Двое других были совсем молоды, и судя по новеньким сапогам и отсутствию оценивающего выражения во взглядах, они совсем недавно поступили на милицейскую службу, только на днях демобилизовавшись со срочной службы в советской армии. Невысокий рядовой с бледным лицом и худощавый подтянутый парень с лычками младшего сержанта.
Как студент юридического факультета, я хорошо разбирался в подобных вопросах и сразу определил, что пацаны служили в патрульно-постовой службе – они были одеты в шинели, перетянуты портупеями, на которых висели планшеты. Я даже знал, что в находится в их планшетах – книжки проверок, в которых расписывалось милицейское начальство во время проверки патрулей. У одного на груди висела рация и в довершение ко всему оба носили зимние шапки, говорившие о переходе на зимнюю форму одежды и такой порядок указывал на их принадлежность именно к полку ППС, в котором поддерживалась почти армейская дисциплина, в отличие от помятых милиционеров из полка охраны гособъектов, вневедомственной охраны или ночной милиции, которая заступала на службу в 23:00 и храпела до семи утра утра в своих автомобилях, отчего их шинели всегды были измяты.
Что касается старшего лейтенанта, то вместо шинели он носил форменный плащ, вместо сапог пошитые в ателье туфли (одной из которых он стоял на чемодане), а вместо зимней шапки фуражку. Потому ппсником он быть не мог, а стало быть являлся убнис инспектори, а по русски участковым, обнаружившим на своём участке незаконную торговлю и поспешивший поживиться, прихватив по пути двух постовых, сделав это исключительно для того, чтобы подчеркнуть свой статус.
«Чем торгуем?» – хищно спросил он, хотя все прекрасно понимали, что торгуют мандаринами. Вопрос повис в воздухе, поскольку никто не собирался на него отвечать и недовольный этим убнис инспектори повернулся ко мне. Он планировал получить взятку и свидетели ему не были нужны: – «тависупали бдзандебит, мокалаке» (можете быть свободны. гражданин), – не особенно церемонясь сказал он мне, и продолжил беседу с торговцем: – В общем торговля здесь запрещена, доходы в нашей стране могут быть только… (он хотел сказать «трудовые», но вовремя смекнул, что может поставить себя в смешное положение, ведь взятка, на которую он напрашивался тоже являлась нетрудовым доходом) … в общем, это… короче, мандарины я конфискую.
Убрав ногу с чемодана, инспектори кивнул ппсникам. Те нагнулись и вдвоём не без труда подняли чемодан.
Продавец воспринял это, как начало атаки на его собственность, схватился за чемодан руками и потянул к себе.
– Как это конфискую? Какое право имеешь…
– Я на всё здесь имею право, я районный инспектор, а ты, кто такой!
– Ну и что что ты районный инспектор, иди бандитов лови, от меня что хочешь?
– Ты спекулянт…
– Я спекулянт? Твоего отца сын спекулянт! Мандарины из моего сада, я их вырастил, не купил, не украл! В землю косточки зарыл, поливал, удобрял, ночей не спал! Я спекуляет?! Урожай собрал, две копейки приехал сделать перед праздником, а ты конфи… конспи… отнимаешь?
В разговор вступил рядовой:
– Как разговариваешь? С кем говоришь? Думаешь на кухне у себя дома сидишь?
– А ты куда лезешь, – огрызнулся мегрел, – У тех двоих хоть что-то есть на погонах а у тебя погоны такие гладкие, что, если кто-то ногу поставет тебе на плечо, поскользнётся!
Раздался хохот останавившихся прохожих.
«Руки убрал!» – рявкнул инспектори, привыкший к покорности уличных торговцев, которые при словах: «конфискую товар», обычно скисали и лезли в карманы за дензнаками, причём никогда не вытаскивали всё, что там было, а осторожно двумя пальцами старались угадать «тумниани» (десятирублёвку) или две купюры по пять рублей – откат участковому, после чего ещё предстояло заплатить трёщку местному ппснику.
Но, времена менялись, в воздухе веяло свободой и это было понятно даже провинциалу с мандаринами. Уловив, что симпатия собирающейся толпына его стороне, он уверенно ухватился за чемодан и потянул к себе. Теперь за чемодан держались четыре человека, но милиционерам было тесно, неудобно, они только мешали друг другу и потому несмотря на численное преимущество не могли взять верх. Участковый почуствовал комедийность ситуации и это его разъярило.
– Сопротивление оказываешь?! У шен чатлахо! – зашипел он и пнул ногой торговца под чемоданом, стараясь попасть в пах, но до паха он не дотянул, а задел колено. Это было не больно, но парень выпустил чемодан из рук и не ожидавшие этого милиционеры свалились на асфальт вместе с трофеем, который они, в отличие от его владельца, так и не выпустили из рук. При этом чемодан широко раскрылся, словно собирался кого-то укусить, и засыпал всех троих мандаринами.
«Вай ме! Вай ме!» – в отчаянии закричал хозяин чемодана глядя, как стремительно его мандарины катятся по асфальту. Одни гибли под колёсами автомобилей, другие отдавали концы под каблуками поднимавшихся милиционеров под смешки городской толпы всегда готовой позубоскалить.
Ппсники смешались с толпой, жалея, что впутались в эту историю. Убнис инспектори поднялся последним. Его плащ был перемазан соком, к выбритой щеке прилипли сегменты раздавленного мандарина, который он припечатал физиономией к асфальту, отворачиваясь от летевшего на него чемодана.
«И чтобы я тебе тут больше не видел», – сказал он напоследок, чтобы сохранить лицо и повернувшись торопливо зашагал прочь.
«Цади ра, цади укве!» (Проваливай, проваливай уже!)» – крикнул кто-то и свистнул. Старший лейтенант не оглядываясь пошёл по улице и вскоре скрылся в подземном переходе. Ещё недавно дело обернулось бы совсем по другому и парню могло не поздоровиться за сопротивление милиции, но дул ветер перемен, и в то время, как перед Домом правительства стояли люди транспапантами «Долой СССР – Да здравствует Свободная Грузия!», а ораторы открыто призывали к провозглашению независимости – на красных петлицах участкового до сих пор блестели два маленьких герба СССР. От этого он не чувствовал себя так уверенно, как раньше и понимал, что вести себя так уже не получится.
Веселье толпы сменилось сочуствием к торговцу. Чемодан подняли, перевернули, принялись заполнять его уцелевшими мандаринами. Я сунул руку в карман и нащупал пять рублей.
– Держи, плачу по рублю за мандарин, Очень уж они у тебя хорошие. Давай пять штук,
– Ты, что – по пять рублей за штуку! Это же не золото. Бери пять – шесть килограмм, – всхлипнул парень.
Куда мне столько? Я на работу иду, коллег угощу. Ну, ладно возьму ещё парочку.
Когда я уходил, народ с переплатой вовсю разбирал мандарины, помогая возместить убытки пострадавшему. Дух протеста витал над городом.
***
Днем опять пошёл дождь. Тенгиз дремал за засыпанным мандариновой кожурой столом, мы с Зурабом развалились на стульях перед окном и глядели на то, как струи воды обрушивались на резные балкончики трёх этажей. Ливень изощрялся как мог – менял направление и наклон струй, то лупил по окнам с удвоенной силой, то оступал, чтобы перевести дух и начать свою одиссею заново. Окна заливало потоками воды, казалось они вот-вот захлебнутся, но вода стремительно стекала вниз и сияющие стёкла, торжествуя отражали свежевымытый итальянский дворик – его веранды, бельевые верёвки, двери, решётки, бурые от времени кирпичные стены… Невозмутимый дождь отступал и тут же с удвоенной силой обрушивался на упрямую материю.
Я принялся комкать исписанный лист бумаги, изготавливая летательный снаряд.
– Спорим, заброшу в ухо, – шёпотом сказал я Зуре.
– Прямо в ушную раковину? Это навряд ли. – в голосе Зураба прозвучала нотка интереса.
Я подбросил будилку и промахнулся – попал по макушке. Тенгиз потёр её, открыл глаза, укоризненно на меня поглядел и отвернулся к стене.
– Я же говорил, что не попадёшь! Ну-ка дай бумагу, я тоже попробую, – радостно прошептал Зураб.
Тенгиз уже не дремал, а подслушивал, – он сразу повернулся к нам и укоризненно поглядел уже на Зураба.
Зазвонил телефон. Зураб вскочил и мгновенно выйдя из состояния апатии перешёл в состояние повышенной активности.
– Это «Свобода»! У меня передача, передача у меня сейчас, передача! – засуетился он, – А где лист, на котором я записал… Он схватил телефонную трубку, зажал её ладонью и зашипел:
– Лист! Быстро!
Я начал припоминать, что только, что видел какой-то листок покрытый закорючками, которые Зураб называет почерком.
– Лист! Где лист, сволочь?! – с ненавистью зашипел Зураб перепуганному Тенгизу, который полез под стол и выудив бумажный шар которым я в него запустил, (так вот где я видел этот листок) подал Зурабу.
– А-а-а! —эакричал, было, Зураб, – но вспомнив про телефонную трубку поднёс её к уху и вежливо проговорил:
– Добрый день. Агентство новостей Ибе… – тут он опять скис и передал трубку мне:
– Тебя. Вигнанский.
– Слышишь, Лолишвили, – - возбуждённо и торопливо заорал мне в ухо Мишель, – Я еду на вокзал за билетами. В командировку меня посылают. В командировку, понимаешь?! Северный Кавказ – Грозный, Махачкала, Владикавказ, потом Баку. Тьфу! Кажется наоборот! Сначала Баку, потом всё остальное. Слушай, Лолишвили, поехали вместе, а! Ты только представь себе: Азербайджан, Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, и на всё про всё у нас неделя. Красота! Для своей «Иберии» знаешь, сколько материала наберёшь! Помнишь Михалкова? —
«Я приехал на Кавказ,
Сел на лошадь в первый раз…»
Я опустил трубку и сказал Зурабу:
– Этот тип едет на Северный Кавказ собирать фольклор и зовёт с собой. Конечно, ему просто лень переться одному, но, в принципе, нам бы тоже не помешало немного фольклора, а?
– Пожалуй, – ответил Зура подумав. Потом сурово поглядел на Тенгиза и добавил:
– И студента с собой захватите. А то возись тут с ним без тебя. Покажешь ему там как… как… фольклор собирают.
Я поднёс к уху трубку, в которой всё ещё бушевал голос Вигнанского, -А виды какие! Ущелья, вечные снега. Ты только подумай! Засиделись! Хватит! Ветер странствий…
– Слышишь, Мишель, – прервал я Мишку, – Я с тобой. Только, чур, я главный!
ГЛАВА 6
Вечером, мы втроём – Мишка, Тенгиз и я собрались в квартире на проспекте Мира, жилплощади, которой Тенгиз, сам того не зная, был стольким обязан.
Мы выступали в поход вечером следующего дня. Поездка обещала стать увлекательной. Миссия Вигнанского была легка, как воздух и неопределённа, как туманность Андромеды. Когда то, ещё в школьном возрасте, я наткнулся на определение синхрофазотрона, которое покорило меня своей понятной непонятностью так, что я умудрился запомнить его на всю жизнь:
«Синхрофазотрон есть циклический ускоритель протонов с орбитой постоянного радиуса».
На первый взгляд всё просто. Во всяком случае с терминами. Ускоритель для того, чтобы ускорять. Не так? Так! Ещё как так! Дальше. Ускорять что? Ха! Проще пареной репы – протоны. Как ускорять? Циклически вот как.
То есть смысл определения ясен и ежу. С другой стороны не всякий ёж соображает зачем протоны нужно ускорять. Да ещё с орбитой постоянного радиуса. И кто из них, вообще, с этим окаянным радиусом? Протоны? Ускоритель? Словом мудреные штуки эти синхрофазотроны.
Мишкино задание столь же загадочно, как и определение синхрофазотрона. Незадолго перед всем этим он перешёл из «Вечёрки» в новую газету под названием «Кавказ», хозяева которой вообразили, что для успеха им необходимо поместить на передовицу самого первого номера (который только готовился) банальную до желтизны фразу: «Кавказ наш общий дом».
Если нам не врали учителя географии, Кавказ состоит из двух частей: Северного Кавказа и Южного, то бишь, Закавказья. Обе эти части были тогда довольно сомнительными общими домами – на Севере друг на друга точили ножи ингуши и северные осетины, а также чеченцы и казаки. В Закавказье шла кровопролитная война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном, и имелись все предпосылки для начала конфликта в Самачабло (как эту территорию называли грузины) или Южной Осетии (название предпочитаемое осетинами).
Кроме того, все воевали сами с собой – повсюду имелись вооружённые до зубов отряды под невинными названиями «социал-демократы», «кадеты», «национал-демократы» и прочее. В общем, СССР отдавал концы, и беспорядки на его периферии были схожи с процессами, имевшими место на границах затрещавшего по всем швам полтораста веков назад Древнего Рима, когда все старались поскорее доконать распадающуюся империю.
Но новые Мишины хозяева не обращали внимания на такие пустяки. Они желали, чтобы на их газете было написано: «Кавказ наш общий дом». А, чтобы никто в доме не обиделся, эту фразу решили напечатать на всех языках Кавказа. Вот этот то кокосовый орех и предстояло разгрызть Вигнанскому.
Языков так много, что расслабляться ему нельзя было нигде – на всех станциях, полустанках, переездах, перегонах, перронах и платформах Вигнанский должен был сломя голову нестись на поиски знающих людей которые смогли бы перевести упомянутую выше теорему на: кумыкский, лезгинский, лакский, агульский, аварский, каратинский, и табасаранский языки. А в запасе ещё: рутинский, чамалинский, удинский, андийский, ахваский и много ещё каких других языков!
Мне не терпелось увидеть, как Мишка будет бродить по аулам и приставать к обидчивым горцам с идиотскими вопросами: «Привет, джигиты! Чтоб… это самое… всегда были резвы ноги ваших скакунов. Между прочим, не подскажете как… хм-хм, написать на чамалинском языке – Кавказ наш общий дом? Не знаете? И по ахваски не знаете?»
Я подозревал, что это будет необыкновенным зрелищем и заранее предвкушал его.
Что касалось нашей с Тенгизом миссии, то в сравнении с задачей Вигнанского, она была скромна как деревенская девушка, говорящая на табасаранском языке (в котором, кстати, сорок восемь падежей, и который занесён в книгу рекордов Гиннеса, как один из самых сложных языков мира) и заключалась, всего лишь, в большой информационной статье для «Экспресс-Хроники» о политической обстановке в кавказских автономиях, приоритетах населения и интервью с представителями различных партий.
Мы выступали в поход на вечернем поезде Тбилиси—Баку. В столице Азербайджана особых дел не имелось (для перевода на азербайджанский вовсе не обязательно выезжать из Тбилиси) и задерживаться там мы не планировали. В Баку нам предстояло провести один день, чтобы, чтобы опять же вечерним поездом выехать оттуда в Махачкалу. На этом месте чёткие планы экспедиции прерывались и начиналось неведомое, как у героев повести Конан Дойла «Затерянный мир». Мы не знали сколько времени займёт у нас дагестанский этап после которого на горизонте маячили Чечено-Ингушетия и Северная Осетия.
ГЛАВА 7
Железнодорожный состав качнулся и замер. Спустя несколько секунд он качнулся и замер снова. Поезд вёл себя так словно он колебался отправляться и раздумывал стоит ли рисковать. Наконец пассажирский эшелон Тбилиси – Баку, отбросил сомнения, решительно протрубил и тронулся, быстро набирая ход.
Скупое вагонное освещение заливало интерьер тусклыми канареечными оттенками. Это навевало хандру и отъездную тоску по дому. Щемило в груди и отчаянно хотелось, чтобы поскорее наступило утро. Мы заперли дверь купе на защёлку, наскоро перекусили холодными котлетами с помидорами, и не теряя времени завалились спать, поскольку весь завтрашний день нам предстояло провести на ногах шатаясь по чужому городу, в котором у нас к тому же не имелось никаких дел.
Вселенная жила своей жизнью – где-то пили чай с баранками, а где-то взрывались звёзды, всё было comme il faut и сыроватые простыни, плоские подушки, мерное покачивание вагона под перестук колёс – всё укладывалось в порядок вещей. Хаос танцевал с Гармонией, время сливалось с пространством…
В окне мелькал жёлтый свет придорожных фонарей, в котором виднелись размытые неясные контуры строений и деревьев, тонущих в темноте. Я сонно глядел на них зачем то борясь с искушением закрыть глаза, мне казалось, что быстро заснув, я пропущу что-то важное, какой то жизненный фрагмент, которого потом не вернуть и которого мне будет очень не хватать… Вот поезд замедлил ход и со скрипом остановился. В окно вплыло здание небольшого вокзала с часами и названием станции, в котором не хватало последней буквы. Я попытался его прочитать, но глаза сами собой закрылись.
Хорошо проснуться в залитом солнцем купе. Повсюду скользят яркие блики, они вспыхивают на никелированных полочках и на рукоятке двери, пробегают по столу и по лицам сладко спящих друзей улыбающихся во сне. Вагон не раскачивает, не слышно перестука колёс, а за окном живёт своей жизнью большая станция, оттуда доносятся – хриплые крики носильщиков, шутки встречающих, брань, свистки…
Я проснулся от холода. В купе было пасмурно и зябко. На столике лежала газета с остатками вчерашнего ужина. С верхней полки доносился лёгкий стук барабанных палочек – там стучал зубами спящий Тенгиз. Ярусом ниже лежал, с головой закутанный в бумажное одеяло, Вигнанский.
На ноги одеяла не хватило и из кокона торчали босые пятки.
Я выглянул в окно, посмотреть на станцию, но обнаружил лишь бурую, набухшую от дождя степь, поросшую чахлыми кустиками. Словом передо мной раскинулся самый унылый пейзаж какой только можно себе не пожелать увидеть спросонья. Решив, что друзьям тоже необходимо срочно увидеть мокрую степь, я оттянул, удерживаемую в исходном положении пружиной, сетчатую полочку и отпустил её. Она громко стукнула по стене, что вызвало недовольное шевеление и ворчание на обоих ярусах.
За одеванием и умыванием мы прибыли в Баку. Состав малым ходом прошел последние сотни метров и триумфально остановился там где ему было положено.
Нами было решено оставить вещи в камере хранения вокзала и побродить по городу налегке. Список мероприятий предусматривал бритьё, обед и прогулку по набережной Каспия.
Александр Дюма, проезжавший Баку по дороге в Тифлис в конце пятидесятых годов девятнадцатого века, оставил несколько интересных воспоминаний об этом городе. Вот одно из них:
«Скоро Баку предстал перед нами во всей своей красе; мы как будто сходили с неба.
На первый взгляд есть как будто два Баку: Баку белый и Баку чёрный.
Белый Баку-предместье расположенное вне города, -почти целиком застроилось с того времени, как Баку стал принадлежать русским.
Чёрный Баку, – это старый Баку, персидский город, местопребывание ханов, окружённый стенами менее прекрасными, менее живописными, чем стены Дербента, но, впрочем, вполне характерными.
Разумеется все эти стены воздвигнуты против холодного оружия, а не против артиллерии.
Посреди города красовались дворец ханов, разрушенный минарет, старая мечеть и Девичья Башня, подножие которой омывается морем.»
По этому отрывку трудно судить о том, насколько понравился город автору «Королевы Марго», лично нам Баку очень понравился, особенно, его старая часть. Центр был просто великолепен. Смешение европейского и азиатского стилей, древние стены напомили другие строки А. Дюма:
«Въезжая в Баку думаешь, что попадаешь в одну из самых неприступных средневековых крепостей. Тройные стены имеют столь узкий проход, что приходится отпрягать пристяжных лошадей тройки и пустить их гуськом. Проехав через северные ворота, вы очутились на площади, где архитектура домов тотчас же выдаёт присутствие европейцев. Христианская церковь возвышается на первом плане площади…»
Пристяжных лошадей у нас не имелось так, что отпрягать и пускать гуськом было к сожалению некого. Разочарованные этим, мы отправились обедать. Приют нашли в ресторане какой то гостиницы в центре города.
В памяти на всю жизнь остались два образа – меню, в котором имелось одно только блюдо, жареная стерлядь (после изобилия тбилисских ресторанов нам это обстоятельство показалось более, чем странным) и невероятная для того времени цена в 100 рублей которую с нас попытались «заломить» за три порции. Вероятно причина была в том, что мы прибыли в заведение небритыми и пешим ходом. Нагрянь мы на лошадях нас приняли бы с большими почестями и подали другое меню. В Грузии меньше внимания обращали на подобные вещи и мы привыкли к более высокому уровню общепитской демократии.
Оскорблённый таким обращением Вигнанский, резво запрыгал перед метрдотелем, размахивая удостоверением и рьяно призывая нас с Тенгизом в свидетели, громко объяснял, что он корреспондент самой известной в мире газеты «Кавказ» и, что никому кто пытается, «надуть» такую шишку не поздоровится.
Пожилой вышколенный метрдотель внимательно слушал его, а потом ослепительно улыбнулся, пустив золотым зубом солнечных зайчиков и примирительно сказал:
– Три рыба – сто рублей? Нехорошо, ай-ай-ай! Наверное Вагиф ошибся да.
После этого он тяжело вздохнул, а нам принесли счёт на 60 рублей. Вигнанский побагровел и запрыгал перед метром во второй раз.
Тот терпеливо прослушал всю пластинку до конца и опять очень удивился:
– Три рыба – шестьдесят рублей? Нехорошо, ай-яй-яй. Наверное Вагиф опять ошибся да. После этого он вздохнул во второй раз.
Счёт унесли и принесли другой на сорок рублей.
Вигнанский погрустнел, но скакать больше не стал и мы, заплатив, отправились восвояси.
На вокзале перед отъездом мы совершили три дела – заели сторублёвую стерлядь мороженым, побрились в привокзальной парикмахерской и сделали первые шаги в изучении азербайджанского языка – мороженое – дондурма, парикмахерская – берберханы, касса – касасы.
Вечер застал нас в купе поезда уносившего берегом Каспийского моря, на север, в направлении Дагестана. Вагон опять заливало тусклое канареечное электричество, но от этого уже не так щемило животы. Время брало своё и хандра потеряла пронзительность, её разбавили пережитые за день впечатления так, что мы глядели в окно с осторожным оптимизмом. Железнодорожный состав, со знанием дела перестукивал литыми колёсами. Сверху на Каспий театральным занавесом опускались синие сумерки. Шло двадцать второе декабря 1990 года. В торговых центрах стран капитализми, на который наша новейшая история начинала брать курс, царила предрождественская суета.