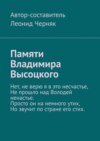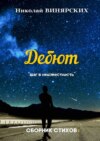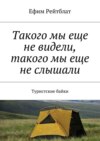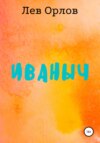Читать книгу: «Воспитание подрастающих поколений», страница 3
На ФПК в Киеве я многому научился в плане теории и методики музыкального образования, как, так и школьников. На занятиях выступали с интересными лекциями не только преподаватели курсов повышения квалификации, но и, в неменьшей степени и сами слушатели, приехавшие на ФПК в Киев с разных уголков России и союзных республик, представляли интереснейший опыт музыкально-педагогической деятельности.
Ещё одним фактором моего становления как молодого учёного, не только в музыкально-методическом плане, и собственно научного развития стала работа над первоисточниками в национальных библиотеках Украины. Именно там, наткнувшись на рукопись, заявленной к защите докторской диссертации Альфреда Мирека, известного в «мире баянистов–аккордеонистов» своей «Школой игры на аккордеоне, я, можно сказать, впервые познакомился с настоящей научной работой. Меня так «притянула к себе» рукопись автора – «родственной души» – баяниста, аккордеониста, что я, отложив все рутинные дела на ФПК «дни и ночи» пропадал в библиотеке, подробно конспектируя его диссертацию. Для меня там было много нового, интересного.
На итоговый отчёт по прохождению ФПК я, в основном, сосредоточил своё внимание как раз на диссертации А. Мирека. А по возвращении в родной город Глазов, я изрядно удивил и озадачил своих коллег – баянистов, аккордеонистов своими познаниями в области баянного искусства исполнительства и методики преподавания. Хотя у них, у каждого, за годы работы, был свой «доморощеный» опыт преподавательской работы.
В научной лаборатории мои научно-методические наработки неоднократно обсуждались на пленарных заседаниях. И так как основное направление наших лабораторских исследований было в русле проблем педагогического творчества и начального образования, а я, как раз, к тому времени был переведён на кафедру педагогики и методики начального обучения, то и мой практический опыт музыкально-эстетического воспитания в курируемых и руководимых мной детских разновозрастных музыкальных коллективах, конечно же, пригодился, как нельзя кстати.
Наш руководитель лаборатории «Творчество в педагогической деятельности» не раз возил нас в Москву на собрания научно-педагогического объединения молодых педагогов-исследователей, которое возглавлял профессор Ю.П. Сокольников. На заседаниях семинара по проблемам начального образования мы, молодые педагоги-исследователи, заслушивали доклады известных учёных-педагогов. Не раз бывали и на заседаниях Академии педагогических наук, где с интересом наблюдали и слушали полемику представителей разных научных школ. А однажды участвовали в выборах народных депутатов СССР. Другими словами – принимали самое активное участие в становлении «педагогики сотрудничества», бурно популяризируемой отечественными педагогами-новаторами.
С некоторыми мы встречались и общались, как на заседаниях Академии педагогических наук, так и в неформальной обстановке. Так, с С.А Лысенковой, В.Ф. Шаталовым, Н.В. Щурковой у нас были интересные и продуктивные встречи на форумах учителей России. В Доме учителя в Москве, в издательском центре «Первое сентября», основанном С. Словейчиком, мы публиковали свои статьи по результатам исследовательской работы.
С Ш.А. Амонашвили мне посчастливилось неоднократно видеться и общаться в неформальной обстановке. Помнится, как наша глазовская делегация, приехав на ежегодное собрание педагогов-воспитателей в МПГУ, мы поселились в общежитие аспирантов, где остановился и Ш. Амонашвили с женой. Мы пригласили их на наш импровизированный вечер-концерт и до ночи общались с Шалвой Александровичем на самые разно-образные педагогические темы.
Кстати, там я впервые испробовал свою методику обучения игре на баяне, который оказался «под руками», так как мы, традиционно, после дневных заседаний по секциям, вечером устраивали мини-концерты. Для этого мы привозили в Москву свои музыкальные инструменты.
Так вот, по ходу нашей встречи-ужина в общежитии аспирантов АПН, мы проиграли свою концертную программу перед супругами Амонашвили. Шалву Александровича больше всего удивило то, что каждый второй из нашей делегации хорошо играл на баяне. Даже наш руководитель В.Н. Харькин, вдруг взяв баян, выразительно спел, замечательно аккомпанируя себе, задушевную песню Т. Хренникова «Что так сердце рас-тревожено». Спел под собственный аккомпанемент, чем удивил и нас «подготовленных артистов».
На восхищенные отзывы в наш адрес со стороны Ш. Амонашвили, мы интригующе заявили, что и его сейчас научим игре на баяне буквально за пять минут. Но на деле процесс научения и исполнения экспромтом произошло гораздо быстрее – одномоментно. Просто усадив Шалву Александровича за инструмент, я попросив у девушек резинку для закреп причёсок, надел её на указательный и средний палец педагога-новатора и отвлекающее попросив его просто растягивать меха баяна, управляя своей рукой его соединёнными резинкой двумя пальцами, «исполнил» малыми терциями на правой клавиатуре баяна мелодию известной грузинской песни «Сулико». Получилось, к удивлению всех присутствующих, очень даже неплохо.
Моя первая кандидатская диссертация была защищена в непростые 90-е годы.
Выполнение диссертационного исследования у меня началось ещё в советское время. Во всех сферах советского общества господствовала марксистко-ленинская идеология. Методологи-ческой платформой для отечественных учёных, исследователей выступал общенаучный системный подход.
Мой научный, профессор Юрген Петрович Сокольников создал свою научную школу о системном подходе к воспитанию подрастающих поколений. Кроме того, как теоретик педагоги-ческой науки Юрген Петрович архитектонику своей педагогической теории выстраивал на основе материалистической диалектики и её основных законов.
Вот и моя тема диссертационного исследования, которая поначалу формулировалась мной довольно прозаично: «Нравственно-эстетическое воспитание школьников», на выходе зазвучала довольно солидно, «диссертабельно», так как в ней просвечивал методологический регулятив моих научных изысканий. В названии темы исследования появилась формулировка собственно научного сопровождения хода и результатов исследования, а именно: «Взаимосвязь и единство нравственного и эстетического воспитания, что прямо указывало на методологическую первооснову моей исследовательской работы – закон о всеобщей связи явлений объективного мира.
Занятна, на мой взгляд, и история выхода на путь диалектической логики (методологии). Однажды, во время очередной консультации у Юргена Петровича, у нас с ним, вдруг, возникла маленькая дискуссия по поводу равнозначности дефиниций терминов: «единство» и «взаимосвязь».
Замечу, что в своих научных работах Ю.П. Сокольников, характеризуя педагогические системы разного порядка, подчёркивал их «органическую связь», но в то же время и их иерархическую соподчинённость.
Так вот, усмотрев в черновиках моей работы новый термин – «единство», он обратился ко мне с саркастическим вопросом: «А что, единство и органическая связь – не одно и то же?»
Не знаю, почему, но я вдруг стал перечить своему научному руководителю, аргументируя тем, что в научной литературе есть такие понятия, как «синкрезис», «калокагатия» (греч. calos пре-красное, agathos доброе), интерпретируемые как нерасчленённое единство. Например, прекрасно-добрые начала в фольклоре, т.е. народной мудрости, которую, кстати, глубоко проповедовал школьный друг и коллега Сокольникова по работе в ЧПГУ Вол-ков Г.Н., основатель отечественной этно-педагогической теории, которую изучают по его учебникам по всей стране.
Забегая вперёд, скажу, что получилось так, что первым оппонентом моей, уже докторской диссертации, оказался не кто иной, а именно академик РАО Г.Н. Волков.
И ещё одно отступление. Конечно же, я тогда вступил в дискуссию с Ю.П. Сокольниковым, движимый интуицией, нежели аксиоматичным знанием и безусловным пониманием всей глубины поставленного вопроса. Это сейчас я, вспоминая фрагмент известного отечественного фильма «Семнадцать мгновений весны» режиссёра Т.М. Лиозновой о поучительной реплике Мюллера на фразы Штирлица … «действия и поступки», что действия и поступки – это одно и то же.
В настоящее время я привожу студентам этот эпизод, иллюстрируя как раз для того, чтобы показать не только взаимосвязь между этими терминами, но и существенную разницу в их значении.
Вот и тогда, послушав мои аргументы, со снисходительной улыбкой, Юрген Петрович, вдруг прозрел и начал увлечённо размышлять вслух о том, что философско-методологическое не единство и даже полное отсутствие связи, есть не что иное, как изначальная форма связи, а единство – высшая форма взаимосвязи.
В конце концов, мы дошли в своих размышлениях до новой, критериально-уровневой системе оценке нравственно-эстетической воспитанности у испытуемых. Гармоничные и энгармоничные, перекрёстные связи между нравственной и эстетической воспитанностью, в совокупности, составили 9 форм взаимосвязи.
Разработка собственной системы критериально-уровневого аппарата диагностики и монторинга экспериментальной работы составила определённую новизну. Впоследствии нашей методикой воспользовались многие педагоги-исследователи из научной школы Ю.П. Сокольникова, да и по настоящее время наша диагностическая методика остаётся востребованной у моих аспирантов, магистрантов бакалавров и учителей-исследователей.
Другим аспектом моей диссертационной работы, наряду с системным подходом, проповедуемым Ю.П. Сокольниковым, стал деятельностный подход, заявленный в теме диссертации «Взаимосвязь и единство нравственного и эстетического воспитания в деятельности детского разновозрастного художественного коллектива». И что вполне логично, так как опытно-экспериментальную работу я проводил в детских, самодеятельных и школьных ансамблях и оркестрах.
Музыкально-творческая деятельность ребят была пронизана эстетизацией, и в то же время способствовала в специфическом детском коллективе – оркестре игры на элементарных музыкальных инструментах, или фольклорном ансамбле, – воспитывать чувства общей заботы и личной ответственности, а в исполнении музыкальных произведений (фольклорных бытовых сцен) представлять «нравственное зерно», закодированное в музыке, фольклоре.
В диссертационной работе я основной акцент делал на установление в оркестре атмосферы творчества и ролевого соответствия оркестрантов. Особенностью организации коллективного творческого музицирования было то, что «капельмейстерами» выступали наиболее одарённые в музыкально-педагогическом отношении ребята, порой гораздо младше своих «музыкантов-оркестрантов», не обладающих не только природными музыкальными способностями, но и хорошими, если не сказать, уникальными организационно-методическими навыками.
Надо сказать, что они пользовались непререкаемым авторитетом среди ребят оркестра, иногда заменяя взрослого руководителя оркестра в репетиционной работе по разучиванию оркестровых партий. Они умудрялись буквально за 5 минут научить точному метро-темпо-ритмичному исполнению на том или ином музыкальном инструменте. Кроме того, весь ход занятий в оркестре был пронизан творческой деятельностью. И не только музыкальной.
Так, освоив правила ролевого соответствия, оркестранты постигали тонкости духовно-нравственных отношений, взаимовыручки, внимательного и доброжелательного взаимодействия с оркестрантами и слушателями выступлений оркестра. Особую роль в этом играл грамотно, т.е. педагогически обоснованный, организуемый процесс подготовки к концертным выступлениям.
И здесь пора поговорить о разновозрастности оркестрантов в наших детских художественных коллективах. Организуя детские оркестры, мы намеренно не ограничивали возрастными рамками его участников. Подобно тому, что в реальной жизни дети взимодействуют и со взрослыми, и со сверстниками, и со старшими, и с младшими, мы полагали, что в такой атмосфере воспитание прекрасно-добрых основ у оркестрантов-воспитанников будет происходить естественно, т.е. не заорганизовано взрослыми, как это приходится наблюдать в школе, где ребята распределены по одновозрастным классам.
Казалось бы, в одновозрастных детских объединениях проще осуществлять воспитательную работу с учётом возрастных особенностей. Это известно ещё из студенческого курса возрастной и педагогической психологии. Да, с позиций классической педа-гогики (Я.А. Коменский), возрастной психологии (Л.С. Выготский) достаточно обоснован принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся.
Но наш опыт работы в детских творческих разновозрастных художественных коллективах показал и другую закономерность в разностороннем развитии школьников. В оркестре коллективное музицирование ребят-оркестрантов «раздвигало рамки» возрастных ограничений. Этому не в малой степени способствовала сама музыкально-творческая деятельность ребят-оркестрантов. И вот почему.
В творческой деятельности налаживалось органическое, почти семейное взаимодействие ребят постарше со своими младшими партнёрами по той или иной оркестровой партии. Происходил естественный процесс сотворчества, при котором дети и подростки добивались «слаживания» в игре на инструменте определённой оркестровой партии, «по-братски» делились маленькими секретами, например, метро-ритмической техники.
Бывало так, что «малыши» быстрее схватывали тот или иной технологический приём исполнения на музыкальном инструменте, и как маленький учитель, по-свойски» растолковывал более старшим оркестрантам как нужно играть и «с рук» показывал технику игры на инструменте. При этом старшие не обижались и не завидовали более способным в музыкальном отношении «малышам».
И напротив, то, что уже освоили более старшие ребята, вызывало у младших «братьев» непреодолимое желание «догнать старших». Это «на глазах» ускоряло их не только музыкальное инструментально-творческое, но и общее, в том числе и духовно-нравственное развитие.
Конкретным примером сотрудничества и сотворчества моих оркестрантов и участников детских фольклорных ансамблей я представил и детально проанализировал в диссертации. Правда, мне, по настоянию моего научного руководителя, профессора Ю.П. Сокольникова, приходилось, в большей мере музыкально-методическую направленность диссертационного исследования «разворачивать» на общую педагогику в русле системного подхода к воспитанию школьников.
Но и в выносимых на защиту положений, и в характеристике педагогических условий, у меня нет да проскальзывали сугубо музыкальные термины: ритмичность, гармоничность, динамичность, темпо-ритм, композиция и др. Мои проницательные оппоненты не только заметили, но и отметили особенности моего музыкально-педагогического языка как заслуживающие внимания, отличающиеся новизной терминологии, которые, по их мнению, несомненно обогащают научно-педагогическую лексику, могут и должны войти в обиход научно-педагогической общественности.
До защиты диссертации я публиковался о результатах исследования в рецензируемых журналах. Но лишь спустя годы после защиты я издал свою первую монографию. В отличие от руко-писи кандидатской диссертации в монографии я акцентировал внимание читателей на музыкально-педагогических аспектах своей опытно-экспериментальной деятельности.
Кроме того, я поместил в приложение к монографии собственные аранжировки и инструментовки музыкальных произведений: партитуры и клавирные нотные иллюстрации. Этими материалами долгое время пользовались мои коллеги с кафедры музыки и музыкальных инструментов. В дальнейшем в учебный план для студентов музфака был включён, разработанный мною, на основе материалов монографии, учебный курс, который затем отдельными частями вошёл в учебные программы других курсов: Элементарное музицирование», «Народное музыкальное творчество Удмуртии» и др.
В один из моих приездов в Москву, я напросился на консультацию к научному руководителю всесоюзного объединения учёных-педагогов по вопросам системного понимания воспитания, профессору Ю.П. Сокольникову, который потом и стал на три года моим научным руководителем. Я оформил соискательство и периодически наезжал в Москву с отчётами по научно-исследовательской деятельности.
Юрген Петрович как учёный-методолог, научил меня разрабатывать научный аппарат и так называемые им «предварительные положения», стратегию и тактику педагогического исследования. Он, будучи в своё время директором общеобразовательной школы в Чувашии, превосходно разбирался в теории и методике изучения практического педагогического опыта, организации, методике, математической обработке результатов промежуточных «срезов» и, главное, систематизации полученных исследователем результатов, их научному обоснованию и грамотному научному толкованию.
По завершении 3-х лет соискательства, за которые много что произошло в плане моего повышения научно-педагогической исследовательской подготовки в качестве аспиранта-заочника. Сдал все кандидатские экзамены, ездил на многочисленные научно-практические конференции, на которых удавалось выступать с докладами и сообщениями. Публиковал тезисы и статьи по теме диссертационного исследования в отечественных рецензируемых научных журналах и сборниках статей.
Дописывать диссертацию мне пришлось в Москве, и так получилось, что моя защита кандидатской диссертации состоялась на год раньше окончания моей официальной учёбы в заочной аспирантуре. Вспоминая сегодня те годы, можно сказать, что это было очень не простое время. Ведь результат, к которому я стремился, был сопряжён недостаточной поддержкой с моей стороны семьи, как материальной, так и из-за нехватки времени, которое необходимо было уделять моей жене и совсем ещё маленькому сыну Андрюше.
На защиту я вышел в должности заведующего кафедрой педагогики начального обучения, что не помогало, а напротив, осложняло составление сопроводительных документов, как до защиты, так и после, при прохождении документов и диссертации в ВАК (высшей аттестационной комиссии СССР).
Что касается моей диссертации, о она была целиком и полностью построена на моём опыте музыкально-эстетического воспитания младших школьников и школьников постарше. Поэтому и тема диссертации была сформулирована следующим образом: «Взаимосвязь и единство нравственного и эстетического воспитания в детском разновозрастном художественном коллективе».
А самой защите мною диссертации предшествовала целая история. Жить в Москве мне пришлось по всякому, так как аспирантское общежитие мне было не положено. Поначалу мы с докторантом и моим коллегой-наставником В.Н. Харькиным снимали дачный домик за пределами Москвы – на Тайнинской. По вечерам, довольно поздно возвращаясь из «Ленинки» (национальной библиотеки им. В.И. Ленина), мы с ним первым делом топили русскую печку, жарили картошку и ложились спать.
И тут Валера Харькин надумал в очередной раз жениться, и некоторое время ужин готовила невеста моего коллеги. Но случилось так, что за день до свадьбы «жених» жениться передумал. В общем, суть да дело, но когда мне представилась возможность найти другое жильё, я съехал с дачного домика. Как раз в то время, я по поручению Сокольникова, я решал вопросы о поселении в загородной гостинце педагогов-учёных из разных республик и городов СССР, приезжающих на годичное собрание ассоциации «Воспитание». Там-то я и договорился пожить некоторое время – цена за проживание была сносная.
Понятное дело, что в таких условиях, а было ещё и временное проживание в квартире, которую сдавали москвичи по доброте душевной, завершать работу над написанием кандидатской диссертации было затруднительно.
За полтора месяца до защиты, я наконец-то «подснежником» попал в аспирантское общежитие. Во-обще-то это была бытовка аспирантов, где они хранили утварь, чемоданы, не сезонную одежду и обувь. Но, зато был стол, кровать, стулья. А главное – было окно с обзором широкого проспекта Вернадского и изумительной церкви, которую реставрировали или ремон-тировали.
Работая в этой каморке над рефератом и другими материалами и документами, требуемые к защите, я, часто поглядывая в окно на церковь невольно подумал, что я обязательно должен закон-чить диссертацию и подготовить сопроводительные документы к защите раньше, чем строители закончат ремонт церкви.
Кстати, о церкви. Ещё до упоминаемой мною ранее неудачной женитьбы Харькина, он вдруг решил креститься. И вот, в один из воскресных дней мы с ним отправились в одну из церквей на Чистых прудах, где и вместе с младенцами батюшка полил святую водицу на лысину моего коллеги и блудливого прохиндея, прочитав молитву и окрестив его. После крещения, выйдя из церкви и свернув по улице за угол, крещёный докторант воскликнул: «Батюшка отпустил мне все грехи! Как здорово! Можно опять грешить, с чистого листа».
Я же, закончив свою диссертационную работу и издав в типографии МПГУ автореферат диссертации, стал серьёзно задумываться о самой процедуре защиты в диссертационном совете. Я не раз бывал на защите диссертаций и знал все тонкости этого, весьма занимательного действа, о чём пока умалчиваю, но осознавать всю ответственность за свой долгий и кропотливый труд начал только что.
Как-то раз, взглянув в окно своей каморки, я с удовольствием заметил, что и ремонт церкви завершён, зазвонили колокола на звоннице, а значит, начались службы священнослужителей для верующих прихожан. Не долго думая, я приготовил всё не-обходимое, дабо я уже знал по харькинскому опыту, что нужно для крещения. Далее, если без подробностей, я окрестился в церкви, которую наблюдал из окна свей каморки. И как-то сразу успокоился, забыл про все страхи и коллизии восточных аспирантов из «команды» Ю.П. Сокольникова.
Тут вот ведь как получилось. Я, как уже писал, в течение трёх лет наезжал в Москву лишь на отчёты по диссертационному исследованию, а «восточная свита», напротив, училась очно. Встречаясь с ними на конференциях и защитах кандидатских и докторских диссертаций, я постоянно получал от них назидательные советы о том, что и как надо делать. Каково же было их удивление (и не только) когда в очередной раз, поучая меня, как следует работать над диссертаций, они вдруг узнали и поразились тому, что я (на год раньше) приехал на свою защиту.
Так вот, окрещённый, а напомню, что это были застойные советские времена, коммунистическая идеология, атеизм и всё такое, я воспрянул духом и с деловым усердием готовился к защите диссертации в головном вузе нашей страны.
Защита прошла успешно, хотя не без приключения. Я защищался после защиты докторской диссертации. Во время перерыва я решил разложить оставшиеся у меня после рассылки свой авто-реферат членам диссертационного совета, как делал это до меня докторант. Это увидел председатель совета Дмитриев. Он сгоряча подумал, что я не сделал рассылку автореферата, и решил отменить мою защиту.
Спас положение В.Н. Харькин. Он как докторант был вхож во все кабинеты университета. Кроме того, он от матушки природы – импровизатор. Быстро смекнув, как можно поправить дело, он схватил у меня стопку мини-томиков стихов классиков, которые были приготовлены мною в качестве презентов членам диссертационного совета и убежал в кабинет А.Е. Дмитриева. Через две минуты они вышли и приказали мне собрать авторефераты и готовиться к защите.
После такой встряски я всё же сумел настроиться на свой научный доклад. Помню, что перед самой защитой В. Харькин в кулуарах уговаривал членов совета не задавать мне вопросов. Но процедура защиты у А.Е. Дмитриева была уже давно отработана, недаром уже после защиты, на банкете, первый тост был о том, что председатель совета, словно дирижёр, управлял слаженным оркестром, а оркестранты (совет) играли по нотам, которые им раздали, т.е. по партиям.
Долгий путь к докторским диссертациям
Он на самом деле оказался для меня очень долгим.
Руководство музыкально-педагогическим факультетом, а затем ещё и кафедрами: сначала кафедрой педагогики начального обучения, а ещё потом, по самодурству тогдашнего ректора, и кафед-рой методики начального обучения, отнимало у меня всё время – и рабочее и свободное.
Это были годы, по своему, тоже очень насыщенные событиями – приятными и нерадостными, интересными делами по организации и реализации моих задумок в плане творческой жизни факультета, учебной – со студентами, учебно-методической – с преподавателями кафедр, и совсем маленько, – собственной научно-исследовательской деятельности.
В НИЛ «Творчество в педагогической деятельности», тем временем, тоже произошли события, которые и подтолкнули меня активизироваться в плане научно-исследовательской деятельности.
Мой коллега А.П. Шаховской блестяще защитил докторскую диссертацию, чем порадовал весь наш дружный лабораторский коллектив, и «огорчил» его доброжелателей в лице зав. кафедрой музыки, да и некоторых её завистливых членов, как впрочем, пожилых, так и молодых. Тут дело заключалось в том, что, как я уже упоминал в других очерках, на кафедре музыке никогда и не было доселе дипломированных вузовских преподавателей. Считалось, что для институтской «богемы» – певцов и музыкантов «оно и не нужно».
Но сам заведующий, всё же, с грехом пополам, защитивший некогда кандидатскую диссертацию, ревностно «помогал», т.е. изо всех сил, используя без зазрения совести своё служебное положения, так как был под прикрытием чиновников глазовского городского комитета коммунистической партии, со всей своей коммунистической убеждённостью вставлял палки в колёса тем преподавателям, которые посмели заниматься наукой, т.е. покушался на его «нимб» единственного «учёного» на кафедре.
Защита докторской диссертации А.П. Шаховским проходила в диссертационном совете Московской консерватории. И даже туда его недоброжелатели, ещё до защиты кляузничавшие в диссертационный совет, и после – в ВАК, припёрлись на его защиту, но не затем, чтобы от кафедры поддержать Альберта Павловича, а позлорадствовать и посплетничать, если на защите возникнут хоть малейшие шероховатости.
Но Альберт Павлович им такого «удовольствия» не доставил, так как защитился ну просто блестяще, под аплодисменты всех членов диссертационного совета и присутствующих, кроме «наших вредин»: Шарабурова и Тукмачёвой, которые в самый кульминационный момент успешной защиты, буквально «как пробки» выскочили из зала диссертационного совета.
Меня же защита А.П. Шаховским докторской диссертации по искусствоведению порадовала по двум причинам: как руко-водителя НИЛ «Творчество в педагогической деятельности», членом которой он являлся с момента её создания и на время моей защиты кандидатской диссертации был её научным руководителем; и как его единомышленника по изучению удмуртской музыкальной культуры. Наше совместное увлечение русским и удмуртским музыкальным фольклором в его диссертационном исследовании вылилось фундаментальный научный труд о бесермянском крезе.
Я хорошо был знаком с самой диссертаций, но более всего, с тем кропотливым, многолетним научно-исследовательским тру-дом, трудолюбием, который Альберт Павлович проявлял во всём: в педагогической, научной, общественной и личной жизни.
Я стал больше внимания уделять своей научно-исследовательской работе по проблеме профессионально-творческой готовности будущего учителя к педагогическому труду. Материалов и публикаций по данной проблеме у меня уже было предостаточно. Но я всё никак не мог собраться и вплотную заниматься диссертацией.
Но случилось так, что в определённый момент я стал неугоден ректору и его «мурослепым» и «серогорбым» приближённым из-за своей, по-видимому, излишней принципиальности и прямолинейности. Вспоминать обо всём, что было в данных очерках не хочется. Хотя вполне возможно, когда-нибудь, я напишу и опубликую свою «драматическую повесть» про свои удачи и просчёты на поприще руководителя кафедр и факультета, а также про все «художества институтских начальников-карьеристов и иже с ними «вся подхалимная рать» из блатных родственников и завистников.
Но случилось то, что случилось. Мне настойчиво предложили (в нарушение трудового соглашения и переизбрания меня на следующие 4 года в должности декана), вроде как, для завершения работы над докторской диссертацией, с должности декана перейти на должность старшего научного сотрудника и взять под это годичный творческий отпуск.
Правда на следующий день, когда я пришёл в ректорат с решением согласиться на «предложение, от которого нельзя отказаться» ректор заюлил и уже засомневался в необходимости приготовленной для меня доброжелателями «рокировки». Но я-то, за день и ночь, что дали мне на размышление, всё пережил, обдумал и решил, что худа без добра не бывает. Написал заявление на СНС и годичный отпуск. И на самом, деле мудрые народные поговорки сбываются.
Выйдя в творческий отпуск, я, «перво-наперво», стал больше времени уделять семье и даже стал готовить обеды и ужины, ходить по магазинам за продуктами, заниматься ремонтом квартиры и, наконец, обустройством дачи. И как-то на всё нашлось время.
Спокойная, без вечных дёрганий на работе: то из учебного управления, то из приёмной проректора, то ректора, то отдела кадров и т.д., моя домашняя работа с материалами опытно-экспериментальной деятельности стала получаться и радовать. Радовать самим процессом обработки экспериментальных данных, и обобщения педагогического опыта по творческому развитию студентов за прошедшие долгие 10 лет.
Зная по прежнему опыту, что подготовка к защите(хотя до неё ещё ой как было далеко), я на свой страх и риск взял кредит в сбербанке. Определённую часть кредита я сразу потратил на житьё-бытьё, так как мой творческий отпуск, не больно-то, и оплачивался, а жить на что-то надо было.
Да и особой уверенности в том, что я непременно защищусь, в то время у меня не было. Как не было и у моего институтского начальства, хотя подозрения такие их посещали, видимо всё чаще и чаще. Хотя, поначалу, у них скорее была уверенность, что ничего у меня не получится, но вскоре сильно засомневались, зная мою работоспособность и способность достигать намеченных планов.
Через 2 месяца моей «домашней» кропотливой работы диссертация, вчерне, была написана. Добавились и необходимые ВАКовские публикации в научных рецензируемых журналах.
По рекомендации коллег по НИЛ «Творчество в педагогической деятельности» я решил показать свою работу председателю диссертационного совета в УдГУ Трофимовой Г.С.
Тут следует оговориться вот о чём. К тому времени я несколько изменил формулировку темы диссертации, и вместо творческой готовности озаглавил по другому, а именно «профессионально-творческая компетентность». Было это ещё задолго до того, как в отечественной педагогической среде начался бум на «компетентность и компетенции», на мой взгляд, очередное без-думное следование Болонскому процессу.