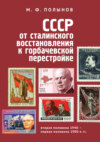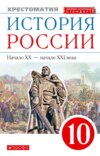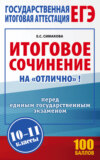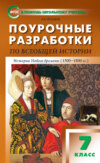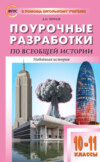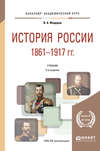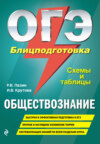Читать книгу: «СССР: от сталинского восстановления к горбачевской перестройке. Вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.», страница 10
2. Провокация 1 сентября 1983 г. Отношения двух сверхдержав у опасной черты (сентябрь-декабрь 1983 г.)
События, имевшие место 1 сентября 1983 года, ввергли отношения двух сверхдержав в очень опасное противостояние, какого между ними не было со времен Карибского кризиса. В этот день над Сахалином советским истребителем был сбит самолет. Летчик майор Осипович был уверен в том, что сбил американский самолет-разведчик РС-135, но в реальности, как вскоре выяснилось, это был южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747», на борту которого было 269 пассажиров, включая 61 американца482. Все они погибли. Осипович позднее объяснял: «Ни на минуту я не думал, что могу сбить пассажирский самолет. Все, что угодно, но только не это! Разве мог я допустить, что гонялся за «Боингом»?..Беда всех советских летчиков в том, что мы не изучаем гражданские машины иностранных компаний. Я знал все военные самолеты, всеразведывательные… Но этот не был похож ни на один из них»483.
В том, что сбитый самолет является самолетом-разведчиком, не сомневалось и командование ПВО.
Нужно заметить, что нарушения советского воздушного пространства американскими самолетами-разведчиками имели место в течение длительного периода времени. Они начались еще в начале 1950-х годов. Сталин, скрепя зубами, вынужден был это терпеть, так как советские средства ПВО не могли их достигать. Не в последнюю очередь это обстоятельство заставило Сталина, а затем Хрущева форсировать развитие ракетной техники. Только 1 мая 1960 года в районе г. Свердловска советская ракета класса «земля-воздух» сумела сбить американский самолет-разведчик, и даже в плен был взят оставшийся в живых летчик Фрэнсис Пауэрс.
Однако авиационная разведка не была прекращена и после этого. В условиях обострившихся советско-американских отношений при Рейгане подобные нарушения не были редким явлением.
За январь-август 1983 года только в районе Курильской гряды самолеты ВВС США девять раз нарушали советскую воздушную границу. В ряде случаев это могло происходить из-за тяжелых погодных условий, но, как правило, они планировались. В частности, 4 апреля 1983 года самолеты с опознавательными знаками США не только вторглись в советское воздушное пространство, но принялись демонстративно отрабатывать условное бомбометание по советским наземным объектам484. МИД СССР заявил по этому поводу решительный протест Госдепартаменту США.
И на этот раз, советские радарные установки обнаружили над Камчаткой самолет-разведчик РС-135. Однако около 5 часов утра по – местному (камчатскому) времени, в этой же зоне и на этой же высоте был обнаружен еще один самолет, который ошибочно был определен, тоже как самолет-разведчик. Но им оказался не самолет разведчик, а южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747», летевший из Нью-Йорка в Сеул. Самолет отклонился от заданного маршрута на 500–600 км. Подобные самолеты уже тогда были оснащены прекрасным радионавигационным оборудованием. Поэтому можно ли считать столь большое отклонение случайным? К тому же самолет почему-то отклонился в сторону секретных советских ракетных баз. Истребитель Су-15 пытался посадить его на советский аэродром, но экипаж «Боинга» не подчинялся командам советского истребителя. Провокация США заключалась в том, что они не могли не понимать, что посылая пассажирский самолет в подобный полет, он может быть сбит советскими системами ПВО. На световые сигналы, такие как «мигание огнями» и на очереди трассирующих снарядов, самолет-нарушитель не реагировал, наоборот, он стремился оторваться от преследующего его истребителя. Подобные действия «Боинга» убедили командование советской ПВО в том, что оно имеет дело с наглым нарушителем разведчиком, и в районе острова Сахалин в 6 часов 24 минуты он был сбит.
Однако сомнения развеялись в тот же день 1 сентября, когда в Москву поступил запрос заместителя государственного секретаря США Роберта Бэрта о пропаже в районе Сахалина пассажирского самолета, следовавшего из Нью-Йорка в Сеул с посадкой в Аляске. Это было для советской стороны полной неожиданностью.
Утром 1 сентября Госсекретарь США Дж. Шульц на экстренно созванной конференции заявил, что самолет был сбит, несмотря на то, что советские ПВО знали – это самолет пассажирский. Подобный вывод был сделан вопреки тому, что за полтора часа до выступления Шульца перед журналистами, разведывательное управление ВВС США предоставило руководству Пентагона, а затем и в Белый дом свое заключение, основанное на американских технических данных и всех обстоятельствах событий прошлой ночи. Вывод был однозначным: русские приняли «Боинг-747» за РС-135 (разведывательный самолет)485.
Американская администрация априори заняла воинствующую обвинительную позицию. Ее не интересовало объективное положение дел. Советский посол А. Ф. Добрынин писал: «…Проведенная им (Шульцем – М.П.) сверх эмоциональная пресс-конференция сразу же задала тон всем откликам в США. Для меня до сих пор остается загадкой подобная торопливость госсекретаря. Судя по всему, он был введен в заблуждение директором ЦРУ Кейси, сразу же утверждавшим с подачи своих служб, что речь идет о преднамеренном уничтожении пассажирского самолета над советской территорией, хотя другие разведслужбы высказывали сомнения на этот счет. Но чтобы не прослыть, видимо, и мягкотелым… Шульц сразу же взял на вооружение версию ЦРУ. Ее тут же подхватил в еще более резких выражениях сам Рейган…»486. Он получил прекрасный повод для излияния своей антисоветской риторики. «Русский военный самолетхладнокровно сбил корейский авиалайнер… Это антигуманное преступление не только охладило мою политику «тихой дипломатии» с Кремлем, но практически затормозило все наши усилия по улучшению американо-советских отношений»487.
После 1 сентября на Западе была развернута мощная пропагандистская кампания против Советского Союза. В этих условиях советское политическое руководство не сумело занять правильную позицию. Вместо того, чтобы сразу же объявить всему миру о случившейся трагедии, что многократно смягчило бы антисоветский накал, оно, наоборот, стало скрывать факт гибели пассажирского самолета.
Как вспоминает Г.М. Корниенко: «Из разговора с Андроповым чувствовалось, что он сам готов действовать предельно честно. Но он сослался на то, что против признания нашей причастности к гибели самолета “категорически возражает Дмитрий” (Устинов – М.П.). Тем не менее, Андропов тут же, не выключая линию, по которой шел наш разговор, соединился по другому каналу с Устиновым и стал пересказывать ему приведенные мной аргументы. Но тот, не особенно стесняясь в выражениях по моему адресу (весь их разговор был слышен мне), посоветовал Андропову не беспокоиться, сказав в заключение: «все будет в порядке, никто никогда ничего недокажет»488.
На заседании Политбюро с участием Андропова вопрос об инциденте с самолетом обсуждался 1 сентября. На нем приняли решение опубликовать сообщение ТАСС, которое вышло 2 сентября. В нем говорилось: «В ночь с 31 августа на 1 сентября сего года самолет неустановленной принадлежности вошел в воздушное пространство СССР над полуостровом Камчатка, а затем вторично нарушил воздушное пространство СССР над островом Сахалин. При этом самолет летел без аэронавигационных огней, на запросы не отвечал и в связь с радиотехнической службой не вступал. Поднятые навстречу самолету-нарушителю истребители ПВО пытались оказать помощь в выводе на ближайший аэродром. Однако самолет-нарушитель на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря»489. Из этого заявления вытекало, что советские ПВО засекли самолет-нарушитель, но что с ним стало потом, над японским морем, им ничего не известно. И такое неуместное заявление было сделано после того, когда, как выше уже мы подчеркнули, 1 сентября заместитель госсекретаря Бэрт, а затем посольство США в Москве сообщили МИД СССР о том, что в воздушном пространстве СССР пропал пассажирский самолет.
На следующий день – 2 сентября, по поручению Андропова, этот вопрос на Политбюро стал предметом более внимательного рассмотрения, хотя он сам по болезни участия не принимал. Из материалов заседания Политбюро видно, что никакого преднамеренного умысла в действиях советского летчика не было. Приведем слова министра обороны Д.Ф. Устинова: «Наши летчики давали многочисленные предупреждения и над Камчаткой, и над Сахалином. Самолет шел без предупредительных огней. В окнах самолета света не было. Были произведены предупредительные выстрелы трассирующими снарядами, что предусмотрено международными правилами. Затем летчик сообщил на землю, что самолет боевой и его надо поразить»490. Из этого вытекает, что летчик действительно был уверен в том, что сбивает самолет – разведчик.
3 сентября, когда весь мир уже знал о сбитом пассажирском самолете, было опубликовано второе сообщение ТАСС, такое же бездарное, как от 2 сентября. В нем ничего не говорилось о том, что самолет был сбит советским истребителем. В частности, там было сказано: «…вскоре после этого самолет-истребитель вышел за пределы советского воздушного пространства и продолжал полет в сторону Японского моря. В течение примерно 10 минут он находился в зоне наблюдения радиолокационных средств, после чего наблюдение за ним было потеряно»491. В этом же сообщении косвенно признавалась гибель самолета: «…в руководящих кругах Советского Союза выражают сожаление в связи с человеческими жертвами и вместе с тем решительно осуждают тех, кто сознательно или в результате преступного пренебрежения допустил гибель людей, а теперь пытается использовать происшедшее в нечистоплотных политических целях». Однако, кто сбил самолет, об этом ничего не говорилось.
Заявления ТАСС, содержащие много неправды, окончательно девальвировали ту информацию, которая была объективной и правдивой. В частности, то, что американский самолет-разведчик и «Боинг-747» летели по одной трассе, но на разных высотах; пассажирский самолет вторгся в запретную зону СССР; американские электронные средства контроля не вернули «Боинг» на нужный маршрут.
Официальный Вашингтон необоснованно обвинил Москву в сознательном, умышленном уничтожении самолета. И это несмотря на то, что разведывательные органы США располагали необходимыми данными, свидетельствующими, что советская сторона в реальности «Боинг» приняла за разведывательный самолет РС-135.
«Советский Союз против всего мира», «Советская паранойя», «Окровавленные руки Москвы», «Умышленное убийство», – кричали заголовки американских газет в те дни. Американцы жгли государственные флаги СССР перед зданием ООН, били витрины в магазинах, торгующих советскими товарами, требовали самых жестких правительственных санкций против Советского Союза, советских граждан и советских организаций на территории США492. Газета «Чикаго Трибьюн» откровенно признала, что «сбитый самолет оказался политическим подарком и пропагандистским благом для Рейгана»493.
А.С. Черняев 6 сентября записал в своем дневнике: «1 сентября сбили южнокорейский самолет «Боинг-747» с 269 пассажирами на борту над Сахалином… Ясно, что американцы подстроили нам провокацию. И Рейган учинил такую антисоветскую катавасию во всем мире, что теперь уже ничто и надолго не смоет с нас в глазах обывателей всего мира (а их миллиарды) клейма убийц безвинных людей. Десятки правительств, парламентов, всяких прочих организаций и деятелей, включая социал-демократов…. вынесли нас за скобки цивилизованного мира»494.
Вскоре после инцидента с корейским самолетом КГБ направило срочное сообщение своим оперативным работникам на Запад, предупреждая их о возможности ядерной войны. ЦРУ также было крайне обеспокоено вероятностью такого развития событий, – по крайней мере, такие утверждения можно встретить в мемуарах бывших работников ФБР и воспоминаниях бывшего чехословацкого агента, работавшего в ЦРУ 495. Соединенные Штаты и НАТО организовали военные учения, на которых отрабатывалось использование тактического ядерного оружия в Европе. В Северной Атлантике проводились военно-морские учения сил НАТО, а в Баренцевом море, вблизи советских баз постоянно находились американские подводные лодки. «Советское военное и политическое руководство подозревало, – пишет В.О. Рукавишников, – что под прикрытием учений идет подготовка к вторжению в Восточную Европу»496. Другие авторы также отмечают, что «все это создавало в Москве впечатление о подготовке США к прямой военной конфронтации»497.
Отношения между СССР и США после этого инцидента настолько ухудшились, что в массовой литературе и сообщениях зарубежных информационных агентств еще в 1990-е гг. можно было встретить утверждения, что две страны никогда не стояли так близко к войне, как осенью 1983 года498.
В ходе расследования гибели «Боинга 747» все внимание западных специалистов было сфокусировано лишь на самом факте сбития самолета. Никто всерьез и основательно не пытался выяснить, в силу, каких причин «Боинг-747» оказался в глубине территории СССР на расстоянии 660 километров от заданного маршрута499.
Советская сторона потерпела в той ситуации благодаря неумелым своим действиям стопроцентное пропагандистское поражение. Западное и в значительной степени мировое общественное мнение было на стороне США.
Лишь 7 сентября в специальном заявлении советского правительства было признано уничтожение самолета средствами советской ПВО и выражалось сожаление «по поводу гибели ни в чем не повинных людей»500. Однако эти признания были настолько запоздалыми, что изменить мировое общественное мнение и мнение лидеров западных стран хоть в какой-то мере в пользу СССР было невозможно.
О резком обострении отношений в этот период говорит и атмосфера встречи между Дж. Шульцем и А.А. Громыко 8 сентября 1983 года. Она была организована в рамках очередного раунда совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Г.М. Корниенко, участник этой встречи, так описал ее: «встреча, проходившая в резиденции посла США, нарочито была обставлена США так, чтобы всем миром продемонстрировать жестокость и резкость позиции США. В резиденцию было приглашено необычно большое число теле- и фотожурналистов, на глазах которых Шульц даже не подал руки Громыко, а затем, заняв прокурорскую позу, стал отчитывать СССР за «содеянное злодейство». Громыко отвечал ему столь же резко, и был момент, когда оба они вскочили и, казалось, схватят друг друга за грудки»501.
Другой известный советский дипломат А.Ф. Добрынин примерно также описывает эту встречу: «Шульц не успел сесть за стол, как сразу же заговорил об инциденте с самолетом. Но реагируя на предложение Громыко условиться, как всегда, вначале относительно порядка беседы, он стал в повышенных тонах излагать американскую версию этого инцидента, сославшись опять на указание президента. Резкая перепалка министров сопровождалась взаимными обвинениями. Громыко даже в какой-то момент изменила его выдержка: в сердцах он бросил свои очки об стол, да так, что чуть не разбил их»502.
После этой встречи не оставалось никаких надежд для встречи между американским президентом и советским руководителем. Рейган заявил: «все надежды на встречу в верхах испарились» 503. Вслед за этим 29 сентября 1983 года с официальным заявлением выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. Андропов, в котором отвергалась возможность договориться с США по какому-либо важному вопросу до тех пор, пока у власти в этой стране остается президент Рейган и его администрация: «Если у кого-то и были иллюзии насчет возможности эволюции в лучшую сторону политики теперешней американской администрации, то события последнего времени окончательно их развеяли. Ради достижения своих имперских целей она заходит так далеко, что нельзя не усомниться, существуют ли у Вашингтона какие-то тормоза, чтобы не перейти черту, перед которой должен остановиться мыслящий человек»504.
В этом заявлении еще не было упоминания ответного размещения советских ракет в Восточной Европе, однако в нем содержалось недвусмысленно сформулированное предупреждение: «На любую попытку сломать сложившийся военно-стратегический баланс Советский Союз сумеет дать надлежащий ответ, и его слово с делом не разойдется».
Накал напряженности в советско-американских отношениях, а, следовательно, и в мире в целом, продолжал нарастать. А.Ф. Добрынин даже считает, что отношения между двумя сверхдержавами в 1983 году «оказались, пожалуй, на самой низкой точке со времен начала “холодной войны”»505. Американцы по евроракетам заняли бескомпромиссную позицию, отвергали все предложения советской стороны. На XXVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель О.А. Трояновский озвучил позицию советского правительства: «СССР сократил бы свои ракеты средней дальности в европейской части страны до уровня, равного числу ракет в Англии и Франции, ликвидировал бы все сокращаемые ракеты, в том числе значительное количество ракет СС-20»506.
Последующие советские предложения были еще более конкретными. Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов 19 ноября 1983 года объявил, что «СССР согласен оставить в европейской зоне только 140 ракет СС-20, остальные уничтожить. Это было бы намного меньше, чем в 1976 г., когда все признавали, что имело место равенство» 507.
Размещения американских ракет не хотел не только Советский Союз, но и миллионы граждан Западной Европы. Во многих странах развернулось мощное антивоенное движение. В митингах сотни тысяч людей требовали от правительств своих стран не допустить размещения американских ракет. Так, 22 и 23 октября 1983 года в антиракетном движении во Франции приняли участие 250 тыс. человек, в Испании – 300 тыс., Англии – 400 тыс., Бельгии – 500 тыс., в ФРГ – 1 млн. 250 тыс.508 В субботний день, 22 октября, массовые митинги прошли практически во всех крупных городах ФРГ: в Бонне – 500 тыс., Гамбурге – 350 тыс., Штутгарте – 350 тыс. человек. Перед участниками антиракетного митинга у Боннского университета выступали такие известные политики и деятели культуры как председатель СДПГ Вилли Брандт, один их руководителей «зеленых» Питер Гели, писатель Генрих Белль и др.509 Однако предотвратить милитаристские планы США и собственных правительств все же не удалось. Западногерманский бундестаг 22 ноября 1983 года одобрил 286 голосами «за» и 226 «против» решение о размещение американских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет на территории страны, и в тот же день в ФРГ прибыли первые девять ракет510.
В этих условиях бессмысленным стало дальнейшее ведение переговоров в Женеве с США об ограничении ракет средней дальности в Европе. На следующий день руководитель советский делегации на переговорах Ю. А. Квицинский заявил о решении покинуть переговоры511. «Правда, – как пишет Г.М. Корниенко, – “путем аппаратных хитростей” удалось убедить руководство принять довольно гибкую формулу: мы заявили не о разрыве переговоров, а о перерыве в переговорах без установления даты их возобновления, но и без выдвижения каких-то условий для этого. Таким образом, мы не загоняли себя в тупик, как это было, когда мы отказывались садиться за стол переговоров, “пока не будет отменено решение НАТО”»512. «Таймаут», взятый советской стороной, продолжался до 1985 года.
Подлетное время «Першингов» до многих советских военных объектов и городов, в том числе до Москвы составляло всего лишь 12 минут, что не давало времени на принятие необходимых мер обороны. «Коварность» же крылатых ракет заключалась в скрытности подлета к объекту: они обнаруживались слишком поздно, что также не позволяло принять необходимые меры.
Размещение ракет средней дальности в ФРГ и Англии, а затем в трех других европейских странах (Италии, Бельгии, Нидерландах) резко изменило стратегическую обстановку на европейском континенте. Но если советские ракеты СС-20, расположенные в советской части СССР, не могли поражать объекты непосредственно в США, то дальность «Першингов-2» и крылатых ракет позволяла им наносить удары по территории СССР вплоть до Волги.
Ситуация требовала от Москвы принятия быстрых и решительных мер. 25 ноября 1983 года Андропов выступил с заявлением, в котором говорилось, что «ни при каких обстоятельствах не допустит военного превосходства блока НАТО над странами Варшавского Договора». В заявлении были изложены принятые решения. «Первое. Поскольку США своими действиями сорвали возможность достижения взаимоприемлемой договоренности, Советский Союз считает невозможным свое дальнейшее участие в этих переговорах. Второе. Отменяется мораторий на развертывание советских ядерных средств средней дальности в европейской части СССР. В-третьих, ускоряются подготовительные работы на территории ГДР и ЧССР, с согласия их правительств, по размещению там оперативно-тактических ракет повышенной дальности. Четвертое. Поскольку путем размещения своих ракет в Европе США повышают ядерную угрозу для СССР, соответствующие советские средства будут развертываться с учетом этого обстоятельства в океанскихрайонах и морях»513.
По согласованию с правительствами ГДР и Чехословакии в 1984 году СССР разместил в этих странах ядерные ракеты средней дальности СС-20.
Военное противостояние двух сверхдержав достигло кульминации. В этих условиях, любая случайность могла привести к непоправимым последствиям.
* * *
Не сказав своевременно правду о трагедии, связанной с «Боингом», Советский Союз дал повод США разоблачить себя в глазах мировой общественности как «империю зла». Международный авторитет СССР был сильно подорван. Большинство американских избирателей поддержали Рейгана в том, что «Соединенные Штаты находились в самом выгодным за два десятилетия положении, и могли говорить с русскими с позиции силы» 514.
Однако правда об этой трагедии стала просачиваться через официальную американскую пропагандистскую ложь. Уже в октябре 1983 года тональность многих американских газет сильно изменилась. В частности, «Нью-Йорк Таймс» 7 октября писал: «По словам специалистов в области разведки США, они просмотрели всю имевшуюся информацию и не нашли никаких признаков того, что персонал советской воздушной обороны знал, что это гражданский самолет».
В марте 1984 года родственники погибших пассажиров авиалайнера возбудили судебный иск против авиакомпании KAL (которая, как выяснилось, уже давно использовалась спецслужбами для сбора разведывательной информации о советских оборонных объектах в районе Камчатки) и против правительства США. Они обвинили их в сокрытии от южнокорейского экипажа, имевшихся у них данных об угрожающей лайнеру опасности515.
После гибели «Боинга» силами советского тихоокеанского флота были организованы поиски электронной аппаратуры самолета. 20 октября 1983 года была обнаружена кабина самолета и «черные ящики», то есть записывающая электронная аппаратура. Секретные документы, связанные с судьбой этого самолета, находившиеся в архиве Политбюро, а затем в Президентском архиве, были опубликованы в газете «Известия» от 15 октября 1992 года.
Д.Ф. Устинов и В.М. Чебриков докладывали Ю.В. Андропову: «Оценка фактических данных, полученных при анализе показательной регистрирующей аппаратуры самолета и линии поведения администрации США после того, как самолет был сбит, подтверждает, что мы имели дело с тщательно организованной спецслужбами США крупномасштабной политической провокацией, которая преследовала двоякую цель. Во-первых, вторжением самолета-нарушителя в воздушное пространство СССР создать благоприятную обстановку для сбора разведывательных данных о нашей системе ПВО на Дальнем Востоке…Во-вторых, ими предусматривалось, если этот полет будет нами пресечен, использовать этот факт, чтобы опорочить Советский Союз…» 516.
В конце 1990 – начале 1993 года Россия передала в ИКАО (международная ассоциация гражданской авиации) практически все материалы и документы по делу о гибели «Боинга», в том числе копии всех записей из «черных ящиков», а также копии всех переговоров между командными пунктами на Дальнем Востоке в ночь с 31 августа на 1 сентября. На основании этих материалов ИКАО специально объявил о снятии с Советского Союза всех обвинений, выдвигаемых рейгановской администрацией. Было заявлено, что СССР больше не обвиняется в том, что его ПВО и ВВС сознательно сбили пассажирский самолет, совершив тем самым варварский акт. В документе ИКАО, в частности, указано: «3.12. Летный экипаж КАЛ-007 не выполнил надлежащих навигационных процедур, которые обеспечивают выдерживание воздушным судном заданной линии пути в течение всего полета… 3.32. Командование ПВО СССР сделало вывод, что КАЛ-007 является разведывательным воздушным судном РС-135 США перед тем, как оно отдало приказ о его уничтожении»517. Заметим также, что американская сторона не предоставила ИКАО необходимых документов, затребованных ею.
Такова, правда, о трагедии над Японским морем. Скажи о ней своевременно, Советский Союз вышел бы из нее с минимальными потерями, его международный престиж сильно бы не пострадал. Одновременно в руках Соединенных Штатов было бы меньше козырей для развертывания антисоветской пропаганды.