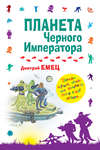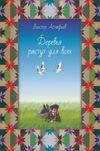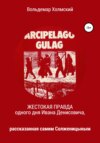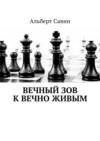Читать книгу: «Двенадцать размышлений об «анонимных алкоголиках» и о программе «12 шагов»», страница 5
Ещё больше сходства с дореволюционными Обществами трезвости (правда, не с городскими, а с сельскими церковно-приходскими ОТ), обнаруживают современные религиозные центры, практикующие амбулаторный способ освобождения от зависимости.
ОТ при храме с.Ромашково в Московской области его участники посещают 1 раз в неделю, обычно со своими семьями, что всячески приветствуется. Членов Общества всего ок.50 чел., и они поделены на 2 группы, которые собираются вместе не чаще 1 раза в месяц: на торжественные службы или молебны в особо значимые церковные праздники, для совместных паломнических поездок или походов в театр. На собраниях раздаются листочки, в которые приезжающие заносят свои сроки трезвости; священник (бывший врач-психиатр) читает проповедь, знакомит собравшихся с новичками. Желающие дают в церкви «обет трезвости», почти полностью повторяющий описанный выше обряд, сложившийся ещё в дореволюционных ОТ. Имеются свои «консультанты» (соцработники) из числа своих же ветеранов, – это единственная дань опыту АА/АН и Миннесотской модели лечения химической зависимости. В целом, 12-шаговая программа в большинстве таких Обществ не практикуется и не приветствуется.
Следует заметить, что различия в формах деятельности всех таких православных Обществ, Центров и Фондов, поставивших своей целью избавление алкоголиков и наркоманов от их зависимости, не сводятся к одной только разнице между стационарным и амбулаторным формам обслуживания их подопечных. С появлением в России первых обществ АА и АН во 2-й пол.1980‑х гг. служители РПЦ разделились на две большие группы – тех, кто поддержал это новое движение, и на тех, кто стал выступать резко против, считая АА/АН некой новой разновидностью протестантской ереси (ср., напр.: Игум.Иона, 2015 и Игум.Анатолий, 2007). Этот «раскол» в среде священников отразился и на общинах их прихожан (см., напр.: 12-шаговые группы. Форум, 2013).
Статистических исследований в этой области никто не проводил, но по утверждению создателей и руководителей таких обществ, среди тех, кто «постоянно приезжает по году и более», ок.75% – полные трезвенники (Игум.Анатолий, 2007; Милосердие.ru, 2008). Примечательно, что в старых дореволюционных Обществах, где вёлся постоянный учёт, мы наблюдаем значения того же порядка, т.е. полностью бросают пить приблизительно три четверти членов ОТ (Кропоткина, 2013а). Для сравнения: в приведённом выше примере медицинской клиники, работающей по Миннесотской модели (Батищев, 2002), устойчивая ремиссия алкоголиков на срок до 2 лет и более, отмечалась лишь в одной четверти случаев (27,3%). Оснований не доверять этим данным у нас нет, но при их сравнении необходимо учесть ещё один параметр – долю верующих в России. РПЦ в лице своих официальных глав и представителей обычно оценивает численность православных в пределах 70-80%, но в эту оценку включены все те, кто «называет» себя православным. Если же исходить из полученных в ходе тех же опросов данных о доле тех из них, кто регулярно (не реже 1 раза в месяц, или, по крайней мере, не реже 1 раза в год) ходит к причастию и к исповеди, то доля действительно верующих («воцерковлённых») людей у нас в стране окажется значительно меньшей: минимум – 3%, максимум – 10-12% (Емельянов, 2019). Повторю сделанное выше замечание: эффективность лечения химической зависимости в любой религиозной общине прямо пропорциональна глубине веры, а показателем её может считаться только участие в предусмотренных этой верой ритуалах и действиях. Расхожие представления о так наз. «вере душой» никак нельзя принимать всерьёз; они были бы ещё более или менее уместны в советскую эпоху, хотя и в те времена сколько-нибудь серьёзные препятствия верующим в исполнении религиозных обрядов существовали только для членов КПСС. В наше время представления о «вере вне церкви» есть не более чем отговорки.
Атеистов в России насчитывается ок.6% (Статистика верующих, 2019). Поскольку атеизм – это убеждение, по силе и глубине равноценное религиозному, уместно предположить, что убеждённых атеистов, как и глубоко верующих людей, в любом светском обществе приблизительно одинаковое количество, т.е. в сумме ок.10-20%. Оставшиеся 80% или 90% следует отнести к одной из двух категорий: либо к представителям других конфессий, либо к функциональным безбожникам – людям, к вопросам веры просто равнодушным. Последних, очевидно, подавляющее большинство, однако, именно они и составляют основной контингент медицинских наркологических центров; для религиозных терапевтических общин эти люди уже НЕ пациенты.
Но поскольку меня интересуют в первую очередь именно «медицинские реабилитационные центры», далее мы займёмся поиском ответа на не очень простой вопрос о том, как их опознать в нахлынувшем на нас ливне рекламной информации, и как отличить такие центры от подделок под них.
Размышление №9. Альтернативные модели лечения алкоголизма и наркомании: коммерческие реабилитационные центры
В среде самих алкоголиков и наркоманов бытует следующее простое представление о видах реабилитационных центров: «мотивационные, где бьют, религиозные, где молятся, и терапевтические, где лечат» (ср. с каноническими формами определений, изложенными напр., в: Советы, 2021).
Представление очень незамысловатое и сильно упрощённое, но я бы под ним подписался.
Начнём наш обзор с важного уточнения: следует строго разграничивать два разных и очень непохожих друг на друга мира: «государственные» и «негосударственные» (коммерческие и благотворительные) реабилитационные центры (Тарасов, 2016; Шуров, 1919). Последние представляют собой явление огромного масштаба и невообразимой пестроты оттенков – от чернильно-чёрного цвета (напр.: Виноградов, 2011, Вся правда, 2018) до вполне приемлемых для глаза светлых тонов (напр.: Дом надежды, 2018). Общее их количество неизвестно. Только легальных, т.е. имеющих лицензию и поддающихся учёту Центров насчитывается на сегодняшний день не менее 750 (Обзор всех РЦ, 2019). Кроме них в стране действует не менее 1 тыс. нелегальных заведений, позиционирующих себя в качестве «реабилитационных наркологических центров», но зачастую представляющих просто группу лиц (иногда она может состоять всего из 3-4 человек), не имеющих никакого медицинского образования, зато имеющих собственный опыт лечения в подобных заведениях, а зачастую и некоторый тюремный опыт. Такие лица, как правило, арендуют для своей деятельности частные дома или загородные дачи, зарегистрированные как «коттеджные центры для предоставления социальных услуг с правом проживания» (Офицерова, 2019). Содержание их рекламных проспектов в брошюрах или на сайтах Интернета может выглядеть чрезвычайно респектабельно и содержать фото дорогих интерьеров и благообразных людей в белых халатах на фоне ультасовременного медицинского оборудования. Однако, на месте чаще обнаруживается обычная жилая постройка с серыми стенами и следами неоконченного ремонта, и выясняется, что реальные контакты таких «центров» с научной медициной лучшем случае ограничиваются приглашаемым один или два раза в месяц платным психотерапевтом, чаще всего из какой-нибудь государственной больницы или поликлиники, находящейся в том же городе. Отсутствие в их штатах дипломированных медиков – эта своеобразная «лакмусова бумажка» всех заведений такого сорта: любой разговор на эту тему моментально вгоняет их в стресс, который они тщательно стараются скрыть. Другим их отличительным признаком является цена и способ платежа. Если от вас требуют платёж только наличными, и если за один день пребывания в таком заведении его владельцы запрашивают менее 7-15 тыс.руб. (в зависимости от региона страны и удалённости от столицы), то пациент гарантированно столкнётся там не только с казарменно-барачными условиями проживания, но и с чрезвычайно эффективными приёмами психологического подавления личности и физического насилия, отработанными несколькими поколениями советских зеков и солдат срочной службы (Решётка и дневник, 2012; За меня мама заплатила, 2021).
Насилие начинается с самой процедуры оформления человека на лечение или реабилитацию. Здесь инициирующей стороной обычно выступают родственники зависимого; они же являются стороной, несущей все финансовые расходы. Насилие носит вполне благозвучное название «интервенции» (см., напр.: Интервенция, 2021), но на практике представляет психическое и (или) физическое – в зависимости от ситуации – принуждение человека к водворению в место, где он должен будет находится до истечения срока лечения или реабилитации. На практике такая «интервенция» может принимать формы грубого похищения (Рассказ приятеля, 2021). Доставленного на место изолируют от внешнего мира сразу и прочно. По словам тех, кто уже имел тюремный опыт, но в подобном заведении оказался впервые, первая мысль, которая приходит в голову: «Здесь как в зоне». Вторая мысль, всплывающая после первого контакта с персоналом: «Здесь ещё хуже» (реабилитант РЦ Минздрава РФ, личное сообщение).
Обнаружить сколько-нибудь достоверную информацию об условиях проживания в подобных заведениях не так-то просто, если не вести специальный поиск. На популярных интернет-каналах такая информация если и встречается, то долго там не задерживается. Тому есть, как минимум, три причины.
Во-первых, посты такого рода очень непопулярны. Большинство выложенных в Интернет свидетельств оставлены достаточно молодыми людьми, которые уже прошли через весь этот опыт, и их психика была подвергнута обработке такого рода, после которой человек хотя и сохраняет привычную систему моральных и этических ценностей, но уже пришёл к выводу, что параллельно с привычным ему миром существуют и какие-то иные миры, в которых господствует совершенно иная мораль и иные ценности, не имеющие с его миром ни единой точки соприкосновения. С нравственной точки зрения, это люди ещё не испорченные жизненным опытом и зачастую наивные. Большинство из них не слишком образованы и не имеют литературного опыта, поэтому их воспоминания изложены простым и бесхитростным языком. Но именно этот стиль и делает их описания настолько страшными, что модераторы интернет-каналов просто боятся оставлять их на своих площадках и нещадно блокируют, несмотря на то, что в них нет ни только смакования сцен жестокостей, но даже нецензурных слов.
«Он отвел меня в подвал, положил на лавку. Двое держали… Пороли ремнем, пока не согласилась подписать. Потом вернули в то же помещение и снова пристегнули к батарее …Решила покончить с собой – выдернула из кофточки шнурок, привязала его к батарее и попыталась удавиться на шнурке от кофточки. Соседка по шконке подняла крик…» (Ройзман, 2015).
«Почувствовал себя плохо, попросил вызвать скорую и позвонить матери… Связали скотчем, вывернув руки назад, и зафиксировали на железной кровати» (Миколайчук, 2019).
«Мотивационные центра – это самая жесть, где ты будешь сидеть на веревке, таскать всякие тяжести (рюкзак с кирпичами, батарею, колёса и т.п), например, ходить в драной одежде и есть из миски на полу (тренинг «Бомж»), сидеть в подвале и всякое такое» (История выздоровления, 2020).
Вторая причина закономерно вытекает из первой. Человек, особенно молодой человек, не имеющий подобного экстремального опыта, просто органически не способен представить, что не где-нибудь в компьютерной игре и не в киношной «страшилке», а в его собственном мире, на одном и том же отрезке времени и в одном с ним городе, существуют «параллельные миры», живущие совсем по другим законам. Поэтому, когда такой текст просачивается на какой-нибудь из общедоступных сайтов, тот буквально взрывается негодующими комментариями: читатели дружно обвиняют автора в грехах самого широкого спектра: от банальной лжи в целях привлечения внимания и лучшей «монетизации» поста, до его причастности к загадочной «секретной службе правительства», созданной для организации «провокаций» с не менее загадочными целями. Можно предположить, что в основе такого неприятия лежит вполне объяснимая боязнь нормальных людей за целостность своей психики. Подобная информация и должна вызывать у людей чувство отторжения, поскольку наделяет таким знанием, жить с которым потом неприятно и больно.
Третья причина заключается в том, что все «ненормальные» люди (а алкоголики и наркоманы, безусловно, являются таковыми) предпочитают не только в реальной жизни, но и в сетях Интернета жить обособленно, поэтому общаются с себе подобными в особо выделенных местах – на сайтах, требующих от посетителей регистрации и авторизации (напр.: Vesvalo, Talk, «Сайт бывшего наркомана», и др.)
Впрочем, чтобы ознакомиться с их опытом, не вступая в прямое общение, достаточно набрать в поисковой строке браузера фразу «Воспоминания о реабилитационном центре». В ответ выскочит множество ссылок, пройдя по которым, можно заглянуть в некоторые из этих сайтов, и увидеть там много такого, с чем человек в обычной жизни никогда не столкнётся.
Но меня в этих заметках интересуют отнюдь не эти маргинальные заведения, вечно живущие под Дамокловым мечом Уголовного кодекса РФ, – их следует всемерно избегать, и только. Гораздо больший интерес представляют только «государственные», т.е. включённые в систему Министерства здравоохранения РФ, наркологические лечебные и реабилитационные заведения на стационарной основе, и именно им будет посвящено наше следующее
Размышление №10. Альтернативные модели лечения алкоголизма и наркомании: государственные реабилитационные центры
Здесь мы рассмотрим только те наркологические реабилитационные центры (далее – РЦ), которые находятся в подчинении Минздрава РФ и являются либо юридическими лицами, либо представителями таковых.
Весьма интересна сравнительная оценка государственных и частных (коммерческих) РЦ, приведённая одним из известных московских психиатров-наркологов В.А.Шуровым на его сайте. Интерес вызывает, главным образом, то обстоятельство, что сам её автор является главным врачом именно «частной коммерческой» клиники и уже по этому своему статусу должен быть предвзят в пользу коммерческих здравоохранительных структур. Тем не менее, он постарался проявить в своей оценке максимум объективности и пришёл к выводу, что при всех недостатках государственных РЦ (отсутствие материальной заинтересованности, невозможность нарушить плановые нормативы, когда этого требуют интересы дела, и т.п.), они имеют два неоспоримых преимущества:
1. Возможность получения в них медицинской помощи не просто «высокого», но «очень высокого» уровня, поскольку только там можно встретить по-настоящему бескорыстных энтузиастов своего дела. В коммерческие структуры такие люди, при возможности выбора, как правило, не идут. (Если не ограничиваться примерами только из медицины, то уместно будет вспомнить А.С.Пушкина, который полагал себя в большой вине перед русской литературой за то, что «научил поэтов зарабатывать на жизнь стихами», а также А.Эйнштейна, который настойчиво уговаривал своих студентов никогда не делать науку источником своих доходов; и, надо думать, эти люди не кривили душой).
2. Бюджетные РЦ никогда не будут «затягивать» лечение в коммерческих целях, поскольку таких целей перед ними обычно никто не ставит. Но в коммерческих лечебницах практика «затягивания лечения» представляется чем-то само собой разумеющимся (Шуров, 2019).
Несмотря на столь очевидные преимущества государственных РЦ, их в России до странности мало.

В сводной таблице 1 приведены обобщённые мною данные статистики за период с 2011 по 2017 гг., взятые двумя разными организациями из архива Минздрава РФ за 2011-2017 гг.
Из приведённых в таблице данных можно сделать три вывода:
1) общее количество государственных РЦ уменьшилось за истекшее десятилетие ровно вдвое, и эта тенденция имеет стабильный характер;
2) проявилась сходная по интенсивности тенденция к утрате государственными РЦ статуса и прав юридического субъекта;
3) наблюдается тенденция к уменьшению числа собственно «центров» и передаче их функций стационарным «отделениям» при больницах и клиниках, численность которых, напротив, стабильно растёт.
Наиболее компетентные эксперты считают такое количество государственных РЦ «крайне недостаточным» (Зенцова, 2025. С.15) и полагают, что они не получают «должной государственной поддержки» (Игонин, 2007. С.58).
Продолжая выявленные тенденции в будущее, можно предположить в ближайшие годы полное исчезновение «государственных РЦ», как структурной единицы Минздрава, и передачу их функций многочисленным «отделениям» (РО), создаваемым на базе больниц и клиник (не обязательно профильных). При этом, вновь возникающие РО не будут иметь ни юридической, ни административно-хозяйственной самостоятельности, и рост их числа не потребует сколько-нибудь существенного увеличения корпуса специалистов.
Если данные таблицы 1. вывести на график, то это сделает эту картину ещё более наглядной (см.рис.1):
Так обстоит дело только с организационной стороной этого сектора здравоохранения. Содержательная его сторона, т.е., собственно научный подход, развит гораздо лучше, и он продолжает развиваться. Здесь можно выделить две работы, содержание которых ближе всего подходит к нашим целям, поскольку содержат наиболее обстоятельную статистику. Обе работы являются диссертационными; на одну из них мы уже ссылались в «Размышлении №6» (Батищев, 2002; см. также: Зенцова, 2015).

Исследование В.В.Батищева проводилось в 1996-2000 гг. в специализированном психотерапевтическом отделении 19-й наркологической больницы Комитета здравоохранения Правительства г. Москвы. и затрагивало только алкоголиков и только мужского пола. Под наблюдением находилось 1056 пациентов в возрасте от 15 до 65 лет. Преимущественный возраст (или «мода распределения по возрасту») приходился на группу 31-50 лет, что пересекалось со средним арифметическим по возрастам, составляющим 39.4 лет. Главной целью исследования устанавливалась проверка эффективности Миннесотской модели выздоровления по образцам клиники Хезелден, США, т.е. той, к которой предполагается преимущественное использование 12-шаговой методики АА/АН. Продолжительность курса лечения автором не указана, но поскольку речь идёт о «классической» модели, то можно полагать, что имеется в виду стандартный курс продолжительностью 28 дней. В другой более поздней работе В.В.Батищев приводит в качестве наиболее часто устанавливаемых сроков лечения диапазон 20-40 дней (Батищев, 2021). Соответственно, основное внимание в его исследовании было перенесено на катамнез, который с большей или меньшей достоверностью удалось отследить только для 707 человек, прошедших полный курс лечения. Показатели ремиссии исследовались по срокам свыше 6, 9, 12 и 24 месяцев. Среднее арифметическое по срокам катамнеза составляло 18 месяцев (1.5 года). Другие особенности пациентов этой группы (возраст, образовательный ценз, род занятий, общая продолжительность срока потребления алкоголя, частота госпитализаций до поступления в клинику и т.п.) мы можем здесь оставить без внимания, поскольку эти характеристики в дальнейшем не использовались. Основной итог проведённого исследования можно сгруппировать в четыре пункта:
1. Процент удержания пациентов на полный срок лечения (20-40 дней) составил 67% (707 из 1056 пациентов);
2. У всех, кто прошёл полный курс лечения (707 чел.), полная ремиссия наблюдалась на протяжении 24 месяцев всего в 193 случаях, т.е. достигала 27%;
3. У тех, кто прошёл полный курс лечения, и регулярно посещал после выписки собрания АА/АН, полная ремиссия в течение 24 месяцев была отмечена у ок.25% (175 из 707 чел.);
4. У тех, кто прошёл полный курс лечения, но после выписки НЕ посещал собрания АА/АН, полная ремиссия в течение 24 месяцев была отмечена у ок.2.5% (18 из 707 чел.)
Иными словами, вероятность сохранения ремиссии на срок 2 года и более ровно в 10 раз выше у тех реабилитантов, которые после выписки продолжают работать над своим выздоровлением в рамках 12-шаговой программы АА/АН.
Этот сравнительный ряд можно продолжить следующим сопоставлением. Если одномесячный курс выздоровления по Миннесотской модели сам по себе обеспечивает длительную (до 2 лет и более) ремиссию после выписки с вероятностью 2.5%, то эффективность выздоровления зависимого, посещающего собрания АА/АН и не прибегающего ни к каким другим видам терапии, оказывается не намного выше и колеблется в пределах 2-10% (Архив АА, 2017). Вероятно, поэтому ведущие отечественные психотерапевты и наркологи, хотя и оценивают деятельность АА/АН как необходимую и полезную, но не считают её «самодостаточной» для полноценного выздоровления и призывают совмещать 12-шаговые методики с научными методами алко- и наркотерапии (напр.: Игонин, 2007. С.57; см.также выше п.2).
(В скобках отмечу, что автор этих строк после выписки из РЦ 17.09.2020 г. не посещал собрания АА/АН – ни по месту жительства, ни виртуально в Интернете, – следовательно, его шансы продержаться в трезвости хотя бы ещё 9 месяцев, оставшиеся ему до двухлетнего срока ремиссии, составляют указанные выше 2.5%).
В отличие от приведённой работы В.В.Батищева, исследование Н.И.Зенцовой охватывало более широкий набор признаков и включало как мужчин, так и женщин, причём в обеих группах абсолютно преобладали так наз. «чистые» наркоманы (опиаты, психостимуляторы и каннабиноиды), хотя почти 40% от общего числа пациентов указали, что регулярно совмещали наркотические вещества с алкоголем.
Строго говоря, эту работу Н.И.Земцовой, представленную в качестве докторской диссертации, следует рассматривать не как «исследование» в собственном смысле слова, но, скорее, как некий долговременный многоплановый проект, в котором она попыталась учесть по возможности все факторы, влияющие на клинико-психологическую и социальную эффективность предложенных ею программ психологической реабилитации наркозависимых. В этом сложном наборе терапевтических методик, способов их оценки и сделанных обобщений нас будет интересовать лишь некоторые сделанные ею выводы, причём, с авторской точки зрения, даже не самые важные.
В поле наблюдений Н.И.Земцовой, проводимых, в период 2009-2014 гг., было включено 453 пациента, пребывающих в нескольких РЦ с различными ведущими методиками реабилитации: 1) РЦ на основе единственной программы «12 шагов» (ок.9%); 2) религиозный РЦ (ок.13%); 3) несколько РЦ, использующих смешанную (эклектическую) модель реабилитации, комбинирующую в себе черты двух предыдущих на общей медицинской психотерапевтической основе (ок.78%).
(В скобках замечу, что автор этих строк проходил реабилитацию в РЦ, который следует отнести к последнему из указанных типов).
Далее Н.И.Земцова попыталась выяснить и очертить основные психологические черты наркозависимых, проходящих реабилитацию в трёх разных типах РЦ. В рамках её исследования это было необходимо для отбора наиболее эффективных программ реабилитации. Для этого был применён Н-критерий Краскела-Уоллиса, но нас в данном случае больше интересуют не применённые методы выявления и описания заболевания, а вопрос о том, какие именно из выявленных Н.И.Земцовой психологических особенностей наркозависимого являются определяющими при выборе им РЦ того или иного типа? Представленные ею описания заслуживают того, чтобы быть приведёнными здесь в полном объёме:
«[1]. Реабилитанты, проходящие программу «12 шагов», проявляют больший макиавеллизм; у них более выражены копинг-стратегии (конфронтативный, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, бегство-избегание), снижены показатели жизненной активности, психического здоровья, общего психологического компонента здоровья и общего индекса волевого самоконтроля; наблюдаются более высокие значения доминирования, авторитарности, эгоистичности, агрессивности, подозрительности, подчиняемости, зависимости. Также у них выявлено более выраженное беспомощное и безнадежное отношение к настоящему; твердое убеждение, что будущее определено, а настоящее должно переноситься с покорностью.
[2]. У реабилитантов конфессиональной программы реабилитации ярче выражена интенсивность боли; снижены значения общего состояния здоровья, социального функционирования, физического компонента здоровья; наблюдаются более низкие показатели локуса контроля-жизнь; наблюдаются более выраженные субмиссивные мотивы употребления, более высокие значения шкалы “дружелюбие”.
[3]. У реабилитантов из центров, работающих по смешанной (эклектической) программе реабилитации, лучше, чем у остальных, проявляется ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, локус контроля-Я; наблюдаются адаптивная форма проявления дружелюбия и более выраженная ориентация на будущее.
Таким образом, доказано, что наркозависимые, проходящие разные программы в центрах реабилитации, различаются по уровню выраженности изучаемых психологических параметров» (Зенцова, 2015. С.23-24).
Можно предположить, что именно эта разница в «психологических параметрах» и является главной силой, которая предопределяет выбор зависимым места его будущего лечения и реабилитации. Но этот выбор может оказаться и ошибочным, например, по причине финансовых соображений или мнения родственников, или под воздействием рекламы, или – в особых случаях, – когда выбор определяется судебным решением, которое вообще исключает право выбора. Ошибка может привести к тому, что человек с выраженными психологическими качествами, наиболее соответствующими одной форме лечения и реабилитации, вдруг попадёт на лечение в РЦ, где профилирующими являются другие формы, которые, может быть, совсем не подходят к его психическим параметрам. В таком случае лечение может оказаться бесполезным или даже вредным. (В скобках могу отметить, что пишущему эти строки с выбором просто повезло, поскольку он осуществлялся без его участия и был продуктом сразу нескольких случайных совпадений, о которых он в то время даже не подозревал).
Отмеченное выше повсеместное сокращение числа и юридического статуса государственных РЦ неминуемо приводит к тому, что многие врачи-психотерапевты и психологи уходят в частную практику, центр тяжести которой в последние время всё больше перемещается в сторону Интернет-каналов (так наз. «удалённая» или «скайп-терапия»). В этой части практикующих медиков сохраняется то же разделение взглядов, что и у специалистов, работающих под эгидой Минздрава РФ: часть специалистов признают 12-шаговую программу, по крайней мере, в форме Миннессотской модели (напр.:Батищев, Негериш, 2011); другие считают, что неуклонное следование её требованиям может привести к неустранимым аберрациям в психике (напр.: Осипчук, 2005).
Здесь можно сделать паузу и попытаться дать краткую оценку тому, чего удалось достичь движению АА за 87 лет своего существования. Для этого мне потребовалось на время отрешиться от осознания того, что в этом вопросе я сам являюсь заинтересованной стороной, и попытаться взглянуть на историю движения АА бесстрастным взглядом биолога, препарирующего лягушку. Изложению результатов этой фазы моих наблюдений посвящено следующее