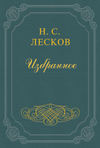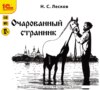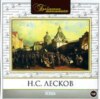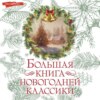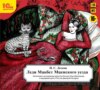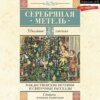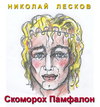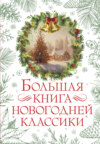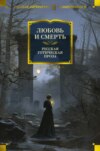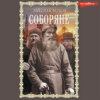Читать книгу: «Котин доилец и Платонида», страница 5
– Ах ты, боже мой! – отвечал сортировщик, и оба они с почтмейстером задумались.
– Разве вот что, – начал, потянув себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерий Иваныч, – разве посадить его расписываться в получательской книге.
– Вы, ей-богу, министр, – отвечал обрадованный почтмейстер и тотчас же послал сторожа за Константином Пизонским.
Призванный Пизонский и рад и не рад был своему счастью: с одной стороны, его манила прелесть заработка за расписку вместо неграмотных, а с другой, как вспоминал он степень собственной грамотности и особенно брал в расчет долговременное неупражнение в этом капризном искусстве, он не решался взяться за это хитрое дело.
– Робка я, девушка, на пере, – говорил он почтмейстеру.
– Дезидерий Иваныч тебя, Константин Ионыч, поучит; он тебя поучит, поучит.
Пизонский подумал и, поджигаемый безгрешной корыстью, отвечал: «Ну, разве поучит».
Дали Пизонскому место «расписчика», но только не впрок пошло ему это место по протекции. Первый же почтовый день, в который ему пришлось расписываться за неграмотного получателя, был и последним днем его почтовой службы.
– Пиши, Константин Ионыч, – диктовал ему сортировщик.
Пизонский взял в руки перо, сначала его послюнил, потом обмакнул, потом положил на бумагу руку, а на руку налегнул правой щекою, долго выводил пером разные разводы и, наконец, воскликнул: «Есть!»
Сортировщик с внятными расстановками начал диктовать: «Оные семь рублей и десять копеек серебром получил и расписался такой-то, а вместо его, неграмотного, отставной рядовой Константин Пизонский».
Пизонский еще крепче прижал щеку к бумаге и пошел выводить.
На этот раз он рисовал до бесконечности долго; круглые глаза его выпирало от внимательного следования за водящею пером рукою; на лбу собирались капли холодного пота, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.
Это продолжалось добрую четверть часа, по истечении которой Пизонский вдруг быстро откинулся на спинку стула, потом вскочил и затрясся, не сводя глаз с своей расписки. Вид его в это время был просто ужасен: он походил на медиума, вызвавшего страшного духа и испуганного его явлением. Сортировщик и почтмейстер заглянули на роковую страницу и тоже остолбенели. На этой странице рукою Пизонского было изображено; «Оние скилбуры и удаст кокеу с рублем почул и распился отстегни на вид Константинтантин…»
Это убийственное для воспроизведения пером имя подняло в душе Пизонского все забытые страдания его сиротского детства; каждое одно из другого вытекавшее «тантинтантин» являлось перед ним новым, злым, насмешливым кобольдом или гномом, и он не выдержал, встал и в страхе затрясся.
– Вот, ангел мой, как он расписался, – говорил через минуту почтмейстер, предъявляя жене испорченную получательскую книгу.
Почтмейстерша не выдержала и улыбнулась, прочитавши Пизонского «скилбуры».
– И «отстегни на вид», – указал ей, обрадованный ее улыбкою, почтмейстер.
– Ну, что ж вы тут такое особенное показываете?
– Да помилуй же, душка: «отстегни на вид». Как же это можно так сказать? В этом ведь просто нет смысла.
– Да, я это вижу, но я все-таки буду о нем самого хорошего мнения, – отвечала почтмейстерша так, как будто она была хорошего мнения о тех, которые к почтовой службе способны.
Этот новый анекдот о Пизонском разошелся по городу; но и он нимало не повредил его незыблемой репутации.
Напротив, Пизонского чуть ли не с этих пор и начали принимать в чиновничьих домах не как ремесленника, а как свободного художника, которому мелочи приказнострочительства даже и неприличны. Его теперь не кормили на кухнях, а сажали на особый стул у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломте хлеба, и говорили ему в глаза не просто «ты», а «ты, Константин Ионыч». Он до такой степени выдвигался из положения рабочего смерда, что даже сам голова стал посылать ему чаю не в сени, а в молодцовскую, и позволял рассуждать с собою стоя у притолки. И не прошло года, как все заметные люди Старого Города самым незаметным образом очутились друзьями и сторонниками убогого пришельца Пизонского, и ему настала пора сделаться собственником и гражданином.
Глава тринадцатая
Принося всем и каждому посильные услуги и втираясь без всяких подобострастных искательств во всеобщее расположение, Константин Ионыч никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорил о своих сиротках. Разве когда кто сам его о них спрашивал: «Ну, как, Константин Ионыч, твои дети?» – то только в таких случаях Пизонский отвечал: «А живут, моя девушка, помаленечку».
– Ты бы, Константин Ионыч, подумал, чтоб дать им какое-нибудь воспитание, – говорили ему барыни. Пизонский отмалчивался или коротко отвечал:
– Как же, девонька, я думаю.
– Хоть бы ты ко мне их присылал поучиться, – предлагала ему почтмейстерша.
Пизонский и от этого отделывался:
– Дики они у меня, дружок: очень сиротливы; людей не видали; куда им в господском доме!
У Константина Ионыча насчет воспитания сирот были свои планы, о которых он ни с кем не говорил, но которые знал до малейших деталей.
Совесть, не допускавшая Пизонского никому ни на шаг перебивать никакой дороги, изощрила его внимание к тем бросовым средствам, которые лежат праздными, которые как бы никому ни на что не нужны и не обращают на себя ничьего внимания. Неудача почтовой карьеры еще более убедила Пизонского, что он не может идти путями протекций. Он чувствовал, что ему пригодны одни прямые пути; что для него гораздо удобнее брать в свои руки то, чем небрегли другие и что не даст ему ни недостойной борьбы, ни врагов и завистников.
Пизонский видел, что на нашей просторной земле, на нашей широкой полосе, и нежатой и неоранной, еще нетронутого добра будет и преизбудет на всякую плоть, не щадящую пота своего, и он сделал новый шаг к устройству сирот своих. В одно лето Пизонский явился на сходку в Думу и сказал:
– Не будет ли, господа думцы, вашей милости пустить меня с сиротами покормиться под мост на пустой остров?
– И вправду, – заговорило общество, – пустим их на наш пустой остров. Все равно ведь от этого пустыря никакой пользы нет, – пусть же этою лядою хоть добрый человек пользуется.
И Пизонский безданно и беспошлинно получил в долгосрочную временную собственность пустой остров – царство запустения, бурьяна, ужей и крапивы.
Это приобретение было для Пизонского таким великим счастьем, что он не мог и вообразить теперь кого-нибудь счастливее себя на целом свете. В первый же год по получении в свою власть этого острова он поставил здесь хибарочку, выкопал землянку, окопал ровок и поставил воротцы. На другой год пустынный остров был уже бакшою, давшею Пизонскому с сиротами и хлеб, и соль, и все, еже им на потребу. Зимою Пизонский почувствовал себя даже барином. Он добыл, где мог, различных книжек и научил своих сироток грамоте, и успехи обеих, очень понятливых, девочек были Пизонскому неслыханным утешением. В таком прелестном благополучии, в таком райском житье прошли для нашего Робинзона целые четыре года: семейный мир его не возмущался ничем ни на минуту; дети его подрастали и учились; у него завелись лошадка и тележка, которую он, по любви к искусствам, каждую весну перекрашивал в новую краску; годы шли урожайные, нечего было и желать больше. Пизонский всеми был почитаем за человека, годного на все и повсюду, и действительно он только не годился в чиновники.
Так Пизонский возник без опеки и без покровительств и уже сам покровительствовал тому, что имеет право на покровительство, – детству. Но… всегда ждут нас, где мы не думаем, разные скверные но.
Глава четырнадцатая
В тот приснопамятный год, когда во многих местах России перед осенью во второй раз зацвели в садах вишни и яблони и народ запророчествовал по этому явлению великий мор на люди, отошел в вечность Марко Деев, муж встреченной нами на огороде молодицы Платониды Андревны. В огромной дубовой колоде, с пудовыми свечами, с ладанным курением и гнусливым раскольничьим пением отнесли его на кладбище и сровняли, по обычаю, с землею, которую он протоптал лет полсотни своими сапожищами. Никто особенно не убивался на могиле отошедшего Марка. Вдова его, Платонида Андревна, тихонько поплакала, да старик Маркел Семеныч уронил несколько слезинок. Только всего и было вещественного выражения скорби по этом усопшем. Брат покойника Авенир оставался совершенно равнодушен к смерти своего жестокого брата, тем более что в течение трех последних дней, которые мертвец простоял в доме, старик Маркел Семеныч, начавший, страха ради холерного, прилежать чарочке, раз пять принимался колотить Авенира чем попадя, упрекая его при этом в бесчувственности и говоря, что «вот тебе бы, нерачителю, следовало растянуться, а не брату». Маркел Семеныч, взволновавшись один раз горем утраты, страхом смерти и вином утешения, никак не мог войти в свою форму и не уставал поддерживать себя стаканом. Засыпав сына землею, он и там, на кладбище, выпил за его душу одну серебряную чарочку, роздал там же своею рукою мешок медных денег на помин сыновней души и сел верхом на свои старинные дрожки, запряженные толстою вороною лошадью, а в колени, боком к нему, робко присела овдовевшая невестка Платонида Андревна. Ясные с темной поволокой глаза молодой вдовы были очень мало заплаканы, и чуть только она с свекром выехала с кладбища на поле, отделяющее могилки от города, эти ясные глаза совсем высохли и взглянули из-под густых ресниц своих еще чище, чем смотрели доселе. Словно они только умылись слезой, или словно теперь только они и увидели впервые свет божий. Да именно скорее можно было предполагать, что они теперь только впервые и увидели этот свет. Это говорили не одни глаза красавицы, но и ее белая грудь, которая вздыхала теперь вольно и широко, колышась под кармазинной душегрейкой.
Кто бы теперь только дерзнул напомнить этой пышной розе: «ты вдовица!», чья бы рука налегнула срезать таким напоминанием этот роскошнейший цветок, так сильно протестовавший за свое право цвести, зрение радовать и разливаться ароматом? Нет, самый пламеннейший идеалист не посоветовал бы ей проводить жизнь в воздыханиях о переселившихся в вечность; ее не осудил бы на сожжение с мужем самый фанатический индеец, и если суровый аскет не сказал бы ей: «Жено! вперед отпущаются ти вси грехи», то поэт, глядя в ее детское личико, должен был воскликнуть:
Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!
Даже суровый старик Деев не щунял ее за скудость источников ее слез, и он, возвращаясь с сыновних похорон, прощал невестке земную красоту ее и, поглядев на нее, проговорил только:
– Тебе неловко сидеть, Платонида! Сядь, лебедь, сюда ближе! – С этим старик своею рукою подвинул невестку от кучеровой спины к своим коленям и еще раз добавил: – сядь так.
– Нет, тятенька, ничего мне; мне даже очень прекрасно, – отвечала Платонида Андревна.
– А ты еще попридвинься: так еще будет лучше.
Платонида Андревна в угоду свекру слегка подвинулась. Маркел Семеныч долго смотрел ей на нос, на лоб, на ресницы и, наконец, проговорил:
– Ты, молодица, по муже хошь и плачь в свою меру, потому что он тебе был муж; ну, очень-то уж ты не убивайся; ты забыта и обижена в моем доме не будешь.
Платонида Андреева легонько поклонилась свекру.
Эта покорная благодарность так понравилась Маркелу Семенычу, что он, слезая у ворот с дрожек, крепко сжал за локоть невесткину руку и еще раз сказал ей:
– Не бойся, моя лебедь, никого не бойся.
За заупокойным столом Маркел Семеныч несколько раз публично заговаривал, что хоша сын его и умер бездетным, но что он, почитаючи его вдову, а свою невестку, желает ей сделать определение и намерен дать ей равную с Авениром часть.
– А может быть даже, – добавлял он, искоса взглядывая на Авенира, – может быть, что в таком буду мнении, что и все ей одной отпишу, как она того заслуживает, потому что ничем я не могу ее укорить и всем я ею доволен, а добро есть мое собственное – кому его захочу отдать, тому и отдам.
Платонида Андревна краснела до самых ушей, не знала, что ей говорить и что думать, и в смущении растерянно кланялась за столом в пояс свекру.
Во все время обеда Маркел Семеныч все себя подправлял, все попивал по чашечке и, наконец, захмелел. Проводив, как мог, гостей, он повалился на диван и только бессмысленно произнес:
– Невестка!
Платонида Андревна с Авениром взяли старика под руки и отвели его в спальню.
– Невестка! – произнес он снова, еще более заплетая языком, когда его положили в постель.
– Что изволите? – спросила его Платонида Андревна; но Маркел Семеныч уж спал и ничего ей не ответил.
Авенир с Платонидой оставили старика высыпаться и разошлись.