Восточный фронт адмирала Колчака
Текст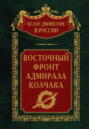


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 99 ₽
- Объем: 1020 стр. 31 иллюстрация
- Жанр: документальная литература, популярно об истории
Подробный разбор военных операций 1919 года когда-нибудь будет сделан; односторонне он был сделан в советских органах. В общем, он подтверждает, с одной стороны, критическое положение красных перед половодьем и энергичную работу для спасения фронта от окончательного разгрома, пользуясь временем половодья. И у них как бы все висело на волоске; и у них были люди раздеты, а пополнения брались прямо в ряды из деревень насильно. В итоге всего приходилось думать не о развитии успехов, а о другом: надо было во что бы то ни стало, во первых, задержаться где-то и, во-вторых, собрать силы для того, чтобы взять снова в руки инициативу.
На севере в это время внешне обстояло все хорошо. Сибирская армия своими группами выдвинулась на правом фланге почти к Глазову, а южнее прогнали большевиков за Каму к реке Вятке. Что там было внутри войск, как относилось население к войскам, как пополнялись части, в каком положении они очутились весной, нам было неизвестно. Сводки говорили о продвижениях, газеты разбирали операции и делали выводы на будущее самого радужного свойства. Почему хотя бы часть Сибирской армии не была своевременно направлена для содействия Западной, так и осталось для нас неизвестным.
Примерно в Абдулине, где мы получили сведения о переходе к красным украинцев и о влиянии этого перехода на настроение наших частей, мы получили сведения о сосредоточении Волжского корпуса26 Каппеля в районе Белибея для смены на Самарском направлении наших частей; узнали также о переорганизации армии и переменах в командном составе. Каппель вывел с фронта свои части в январе и после долгих прений разместил их в районе Челябинска для переформирования выведенных кадров в корпус. Кадрами он был богат, и кадрами надежными; нужно было произвести лишь некоторую чистку от элементов хулиганствующих. Как ни странно, под руководством Каппеля объединялись группы, имевшие ранее на фронте эсеровскую окраску. Корнет Фортунатов формировал конный дивизион. Стоило бы пополнить Каппеля людьми из районов, сочувствующих борьбе, дать лошадей, снаряжение – и остов мог бы превратиться в грозную силу весьма скоро. Вооружение для пехоты и артиллерии было налицо, так как Каппель вывез с фронта значительные запасы.
Не зная обстановки в тылу зимой 1919 года, трудно сказать, что тормозило работу, но, безусловно, к весне корпус готов не был. Уже на фронте я слышал лично от Каппеля, что ему сначала предполагали дать пополнения из внутренних округов Сибири, находившихся в ведении военного министра, но там затянулся призыв, и он ничего не получил. Уже потеряв надежду на получение пополнений из тыла, он поздно стал получать их в районе армии. Для укомплектования пришлось даже прибегнуть к выбору людей среди пленных красноармейцев и вовсе не разбирать, из каких районов получены мобилизованные.
Нужно иметь в виду, что Сибирь, стоявшая далеко от фронта, была настроена вовсе не воинственно, мобилизованные если и являлись по призыву, так это не значит, что шли охотно против большевиков. Сибирь еще в большей степени, чем Поволжье, была ко времени переворотов не тронута большевиками. Еще в городах кое-кто пострадал, а деревня стояла далеко от влияния большевиков. При этих настроениях деревень уже зимой 1919 года в тылу начали создаваться внутренние фронты под влиянием агитации и различных причин. Тут были и мобилизация, и большевистская пропаганда, и работа эсеров после переворота адмирала Колчака. Все это не могло не влиять на настроения укомплектований. Внешне за время переформирования корпуса все шло хорошо, но внутри было не совсем так. Каппель надеялся, что его надежные кадры поглотят всех шатающихся и даже красноармейцев. Может быть, это и было бы так, если бы времени для работы было больше и если бы не пришлось выступать на фронт до окончания работ, частями.
Мы получили сведения, что придет корпус из трех стрелковых бригад и одной кавалерийской. На этом прибытии строились все надежды изменить положение и даже начать снова наступление, так как красные не имели большого преимущества в силах и наступали в общем вяло, а силы корпуса Каппеля расценивались высоко и по численности, и по моральному весу. Пунктом сосредоточения был назначен район Белибея; командование армией, по-видимому, рассчитывало, что успеет перевезти весь корпус в этот район до отхода. Расчет оказался неправильным. Только одна бригада успела сосредоточиться, да и то очень слабого состава; остальным частям приходилось вступать в бой немедленно по разгрузке, и потому часть корпуса начала разгружаться в других районах.
Первой прибыла на фронт Симбирская бригада27. Штаба Каппеля еще не было, и бригада временно подчинялась нам, причем ставилось условием не вводить ее в бой по частям, а использовать целиком. Мы ожидали бригаду минимум тысяч в шесть штыков и были разочарованы: насчитывалось около трех. Правда, и это было силой, так как наши пехотные части во всем корпусе насчитывали в это время гораздо меньше в двух «дивизиях». Мы решили использовать бригаду для активной задачи. Наши части к этому времени, несмотря на слабость, все же задерживали перед собой противника, главное внимание которого было устремлено на направление к Уфе, на маневр фронтом на север с целью отрезать отход 3-го Уральского и 2-го Уфимского корпусов. Против нас действовал как бы заслон, не проявлявший в это время особой активности.
Чтобы обеспечить успех бригаде, мы сосредоточили ее полностью в тылу и назначили ей небольшой фронт для наступления; времени для разведки и ориентировки было дано достаточно. Сосредоточение бригады закончилось благополучно, и утром, кажется, 12 или 13 мая мы ждали результатов наступления. При успехе могли ожить наши части, могла быть создана угроза красным, облегчено положение войск, действовавших севернее нас, и, главное, закончено без помехи сосредоточение Волжского корпуса Каппеля.
К этому времени на фронт прибыл Каппель и принял командование на Самарском направлении всеми частями как особой группой. Наши части подчинялись ему; я временно должен был быть у него начальником штаба. Симбирская бригада поднесла нам страшный сюрприз, произведший ужасное впечатление на измотанные наши части, ожидавшие смены хоть для того, чтобы отдохнуть и одеться. Прибыла она великолепно одетой, люди выглядели хорошо, приказы выполнялись исправно – в общем, никаких подозрений. Вдруг утром приглашает меня к телефону начальник штаба бригады и встревоженным голосом говорит: «У нас несчастье, один полк целиком перешел к красным, захватив офицеров». Из наступления ничего не вышло. Это было для нас страшным ударом. Надежды на изменение положения начали колебаться. Как раз 13 мая вечером на ст. Белибей прибыл Верховный Правитель адмирал Колчак, смотревший части Казанской дивизии28, высаживающиеся из вагонов. Доложили ему. Впечатление это на него произвело тяжелое; несколько истерическим голосом он сказал Каппелю, «что не ожидал этого, но просит не падать духом». Пришлось отказаться от активности и перейти к обороне.
Казанская дивизия сосредоточивалась в районе Белибея и должна была прикрывать направление севернее железной дороги. Ее постигла неудача на первых же порах. Полки, еще не успевшие разобраться в обстановке, были сильно потрепаны конницей красных, действовавшей в этом районе особенно энергично. Начальником конницы называли Каширина, но насколько это верно, сказать трудно, так как во время отходов всегда преувеличивались не только силы красных, но и их энергия. Высадившиеся части корпуса вовлекались в общий отход к Уфе, что было совсем скверно. Из частей 12-й Уральской дивизии решено было сменить с фронта два полка – всего около 500 человек – и послать их за реку Белую на укомплектование, а остальные оставить на фронте. Эти остатки полков в 500 человек с совершенно слабым офицерским составом должны были принять чуть ли не четыре тысячи пополнений, то есть не кадры поглощали пополнения, а они поглощались сами прибывающими.
Между прочим, Верховный Правитель на ст. Белибей выразил желание видеть части 6-го Уральского корпуса. Кажется, на ст. Давлека-ново ему были показаны выводимые в тыл части 12-й Уральской дивизии. Вид их был ужасный. Часть без обуви, часть в верхней одежде на голое тело, большая часть без шинелей. Прошли отлично церемониальным маршем. Верховный Правитель был страшно расстроен видом; командира корпуса после упрекали, что он сделал это нарочно, чтобы оправдать последние неудачи на фронте.
Подробностей отхода частей к реке Белой, боев на Белой и восточнее я не знаю, так как скоро уехал из штаба Каппеля и получил новое назначение. Также не знаю точно, какими планами задавалось в это время армейское командование и Ставка. Но мне приходилось бывать в штабе армии в Уфе и говорить со многими ответственными лицами. Видел начштаверха генерала Лебедева29, приезжавшего в Уфу, видел нового начальника штаба армии генерала Сахарова30.
Как всегда после неудач, прежде всего начинают искать виновников, а затем начинаются различные переорганизации. Получивший на Пасхе благодарность и чин за действия Западной армии весной генерал Ханжин как будто не обвинялся открыто, но ему прислали новых начальника штаба и генерал-квартирмейстера; новый начальник штаба генерал Сахаров распоряжался всем так, как будто он был командующий армией. Ясно было, что генерал Ханжин выживался, вместо того чтобы прямо сказать о недовольстве. Тот скоро и ушел – после оставления Уфы. Предположения оправдались – был назначен генерал Сахаров.
Примерно в середине мая было решено все войска на фронте переформировать в группы: Волжскую31 – Каппеля, Уфимскую32 – Войцеховского и Уральскую33 – Голицына34. 6-й Уральский корпус расформирован с передачей дивизий в другие группы. Носилась мысль о сосредоточении сибирских казаков в районе Уфы и о направлении их в тыл красным: выводилась в районе севернее Уфы Уральская группа с 11-й дивизией для укомплектования и для перехода в наступление. Начались увольнения, перемещения. Начинался разлад между командованием на фронте и армейским, так как Каппель, Войцеховский, Голицын были на фронте с первых дней восстания, начав работу в небольших ролях, не привыкли к понуканиям и нуждались лишь в общих указаниях и ориентировке. Голицын скоро был уволен. Этот период закончился попыткой армейского командования при работе нового штаба организовать сопротивление сначала западнее реки Белой, а затем на Белой.
Результаты были слабыми. В первом случае все предположения оказались необоснованными и несогласованными с временем и состоянием частей; успеха от маневра Уральской группы не получилось. Сибирские казаки под руководством генерала Волкова не оправдали возлагавшихся на них надежд. Во втором переоценили значение реки Белой как преграды. Армейское командование, видимо, подошло к этой оценке с меркой обычной войны, а не гражданской. В гражданской войне очень плохо удерживаются именно крупные пункты, хотя бы они имели хорошие укрепления или естественные преграды. На реке Белой были успешные боевые эпизоды, но, в общем, в первых числах июня Уфа была снова отдана красным – начался отход к Уралу и за Урал с мелкими ежедневными изнурительными боями.
Это было окончательной ликвидацией нашего весеннего наступления. Надежды на то, что положение скоро изменится, уже не было. В общем, все же положение всего дела не считалось безнадежно проигранным; надо было лишь принимать какой-то широкий план для дальнейшей борьбы. Где-то должны быть глубокие резервы, за Уралом громадные пространства – можно собраться с силами и ударить снова. Наступление весной показало, что отношение населения как к нам, так и к большевикам одинаковое. Нас встречали хорошо, иногда с радостью, но, увы, скоро начинались жалобы и на реквизиции, и на самоуправства, и просто на тяжесть военного постоя. На пути нашем из Уфы через Стерлитамак к Богородскому большевики при отходе безжалостно отбирали лошадей для подвод – нам ничего не оставалось. Население ругало их, проклинало; целые толпы крестьян попадались нам навстречу – они двигались за большевиками и старались вернуть лошадей. Иногда это удавалось. Там, где мы стояли долго, начинали ругать нас. Перебегали к нам крестьянские парни, только что перед нашим приходом мобилизованные в этой местности. Мы их отпускали домой, они с радостью уходили. Но когда их спрашивали, не хотят ли идти против большевиков, чистосердечно заявляли, что не хотят. Большевики в это время только что начинали вводить в деревне комбеды, которые еще не показали себя. Кажется, в Богородском приносили мне какие-то протоколы заседания сельского комбеда по вопросу об иконах. Было получено распоряжение из уезда выбросить иконы из помещений сельских советов. Какой-то комбед решил, что это исполнять не следует «по причине привычки населения к суевериям».
Какие же причины привели весной 1919 года к неудаче? Что нужно было сделать, чтобы избежать их? Какие ошибки были допущены в ведении самой операции? Одни говорят, что не надо было зарываться, а надо было ограничиться обеспечением Уфы; другие, что красных спасло половодье; третьи, что плохо действовали вообще на левом фланге и т. д. Причин было много, и только по изучении всей обстановки можно ответить на эти вопросы более-менее определенно. Нельзя делать выводы о всей операции, изучая только часть. Можно сказать лишь следующее:
1. Фронт дал полную возможность высшему командованию начать операцию по намеченному плану и подготовился к ней вполне, использовав все свои средства: фронт блестяще выполнил свои боевые и маневренные задачи, но истощил свои силы.
2. Армейское командование и центр не подготовили вовсе сил ни для обеспечения от неожиданностей, ни для развития удара; в нужную минуту в руках командования не оказалось резерва. Почему не подготовили, были ли к этому уважительные препоны – это вопрос другой.
3. Армейское командование не справилось с вопросом о пополнениях частей и организации вообще запасных частей.
4. В самой операции план первого периода был задуман хорошо и проведен блестяще. Но почему после занятия Уфы большевики с 13 по 30 марта могли держаться близ Уфы? По изучении детально обстановки можно будет ответить на это, но мне, по имевшимся у меня во время операции данным, представлялось, что в этой задержке мы были виноваты сами; надо было по занятии Уфы не увлекаться окружениями, а продолжать движение без перемены направлений, стремясь не давать красным передышки. Даже выделение армейского резерва в этот период может считаться неправильным. Так как все дело было в быстром использовании первого успеха. Если бы передышки дано не было, конечно, мы до половодья могли бы сделать много, а главное, не потеряли бы столько людей.
5. Раз сражение близ Уфы затянулось и было выиграно с большим трудом, нужно было уяснить состояние своих частей и найти способ подкрепить их. Нельзя было перед половодьем разбрасывать их на громадном фронте, зная, что некоторое время они будут лишены взаимной связи и всякого подвоза. Преследовать противника можно было и авангардами; успех был бы тот же.
6. Опоздав с укомплектованием корпуса Каппеля и с переброской, надо было сосредоточить его полностью, выбрав для сосредоточения пункт более удаленный от фронта так, чтобы не приходилось действовать по частям.
7. Воевали на фронте все время те, кто начал операцию; прибывшие пополнения не только не помогли, а местами принесли вред. Значит, обстановка в тылу была нездоровой.
8. Всегда, во всякой войне, дух бойцов имел первенствующее значение. Выше я говорил, как мы боролись за него зимой на нашем участке. Успехи мелких действий, а затем успехи весенней операции подняли его, и мы во время наступления уже не боялись за внутреннее состояние частей. Во время операции после занятия Уфы большие потери нанесли ему ущерб, но все же он был хорош. Надо было беречь его всемерно. Первый удар был нанесен прибытием раздетых пополнений, затем недостатками в снабжении (валенки и полушубки в грязь), а затем потерей надежды на смену, когда в полках у нас оставалось по 12–15 офицеров и 200–300 солдат и когда началась передача красным пополнений, а затем и целых полков. Слухи о таких событиях разносятся страшно быстро. Начались разговоры: «Значит, остаемся без помощи, пока всех перебьют». Когда началось обще отступление, то дух, конечно, упал и в частях наиболее крепких по командному составу. Здесь я должен коснуться одного вопроса относительно духа, весьма, по-моему, печального. Весной 1919 года, кажется, были аннулированы в Сибири советские денежные знаки в 40 и 20 рублей. «Керенки». Неоднократно от начальства я слышал потом, что это отразилось на стремлении идти вперед, так как люди лишались наживы. Ведь у некоторых пленных отбирались десятки тысяч, а сибирское жалованье было слабое и иногда неисправно выплачивалось.
Лето и осень 1919 года. От Уфы до Омска
Весенняя кампания, так блестяще начатая, кончилась проигрышем. «Порыв не терпит перерыва» – половодье остановило наше преследование, не дало нам ничего в смысле пополнений и снабжения, дало возможность советскому командованию произвести целый ряд перевозок войск с других фронтов для спасения положения, дало передышку. Экзамен нами не был выдержан; весенние операции были предприняты без достаточных сил для закрепления и развития успеха – вся тяжесть кампании легла на войска, бывшие на фронте к началу операции. Необходимость переэкзаменовки – скверная вещь вообще, а на войне в особенности. Потеряна инициатива действий, потеряно время, потеряны тысячи лучших людей, пострадала материальная часть. А самое главное – поколеблена вера в успех, подорван дух. Подорван дух бойцов, и сразу же из всех щелей вылезают враги, до сих пор прятавшиеся.
После оставления реки Белой и Уфы, в первых числах июня, обстановка на всем Восточном фронте еще давала возможность высшему командованию надеяться на успешный выход из положения в течение лета. Западная армия отходила с боями, задерживаясь на каждом рубеже, а иногда нанося короткие удары; Сибирская была все еще далеко впереди – правым флангом у Глазова, а левым на Каме; дальнейший отход Западной армии мог поставить ее в скверное положение, но, если бы она своевременно пришла на помощь Западной, большевики могли быть снова побиты на главном направлении.
Южная армия отходила, равняясь на Западную, против нее не было большого нажима. В армейском тылу было много людей в кадровых частях; в более глубоком тылу должны были закончиться начатые ранее формирования. Средств в Омске было достаточно; надо было лишь заставить всех работать. Требовалось немедленное решение центра, решение крупное, на большой период; надо было принять его и проводить в жизнь с железной энергией, не останавливаясь ни перед чем. Нам не было известно, что и как решено было в Омске и вообще принималось ли решение в широком масштабе, намечен ли какой-либо определенный план на лето. Во всяком случае, события летом показывали на какую-то постоянную смену различных решений. Твердой, направляющей руки, проводящей какой-либо определенный план, видно не было.
Действительно: в начале лета Западная армия отходит, а Сибирская остается как наблюдатель; зачем-то на несколько дней Западная армия подчиняется Гайде35 – лишь для того, чтобы тот в приказе выругал весь командный состав Западной армии. Если бы одновременно с подчинением Гайда выделил части своей армии для содействия или ударил вообще с севера во фланг наступающим красным, подчинение было бы понятным. Ни содействия, ни общего решения – и Сибирская армия скоро начинает отступать и быстро разваливается. Вместо помощи Западная армия скоро должна особенно внимательно смотреть за своим стыком с Сибирской армией, чтобы не попасть в скверное положение.
В общем, само собой напрашивается заключение, что Ставка в этот период не имела определенного плана, надеялась остановить красных полумерами и предоставляла армиям скакать, куда каждая хочет. Позже, с назначением генерала Дитерихса главнокомандующим, впервые как будто наметился определенный план (были сведения у нас). Но во время отхода Сибирской армии в намеченные районы Западная армия предпринимала самостоятельно операцию у Челябинска с использованием для нее последних резервов, причем Западная и Южная армии выходят временно из подчинения главнокомандующему.
Советская власть, оправившись от удара весной, а затем окрыленная успехами, поставила себе очевидной задачей внедрение в еще не тронутую настоящим большевистским управлением Сибирь. Не обращая особенного внимания на то, что Сибирская армия выдвинулась своим правым флангом до Глазова, она продолжала давить все более и более уверенно в главном направлении – в центре. В общей обстановке в начале лета обстоятельства ей благоприятствовали; на Южном фронте давление армии генерала Деникина еще не сказалось; в угрожающих размерах в Сибири со времени Омского переворота велась усиленная агитация против власти эсерами, которые в этом отношении сделали уже много, работая на большевиков. Требовалось решение в большом масштабе.
После неудач организации непосредственно сопротивления Западной армии на линии реки Белой нужно было думать о влиянии этих неудач как на Сибирскую армию, действовавшую на громадном фронте от Глазова до устья реки Белой, так и на Южную – в районе Южного Урала – Актюбинска. Какова была обстановка в этих армиях, нам точно не было известно, но, несомненно, обе армии ставились в тяжелое положение при дальнейшем отходе Западной. Если нельзя было использовать часть Сибирской армии для активной роли с целью восстановить положение и раз не было надежды на остановку продвижения красных, нужно было решиться на общий отход всех армий на какой-то фронт, выбранный так, чтобы сосредоточить там все возможное для перехода в наступление.
Как отходить? Можно было организовать медленный отход всех войск с задержкой противника на каждом рубеже и в это время где-то в тылу сосредоточивать войска, подготовленные для наступления. Этот образ действий мог дать наибольший выигрыш времени, но он страшно выматывал войска. В гражданскую войну отступление носит совершенно другой характер, чем вообще на войне. Здесь люди больше всего боятся быть поставленными в скверное положение при соседских неудачах и преждевременных отходах соседей – боятся попасть в плен. Ночлеги при отходах всегда тревожны, и даже случайная стрельба, особенно пулеметная, близ пункта ночлега ведет к переполоху, а иногда к спешному вступлению. Разведка противника и связь с соседями играют роль исключительную, и каждый начальник должен быть ориентирован в обстановке до мелочей. Становясь на ночлег, каждый начальник должен не по карте, а на местности изучить входы и выходы из населенных пунктов и путем самых тщательных опросов уяснить себе картину подступов к деревне. К этой, чисто военной стороне нужно прибавить еще, что отступление, понимаемое населением как неудача на фронте отступающей стороны, осложнялось иногда местными выступлениями под влиянием большевистской агитации.
Другой способ – вывод сразу из боя главной массы войск под защитой завесы, которая должна оказывать возможное сопротивление, – не давал такого выигрыша времени, как при медленном отходе, но при сплоченных частях более сохранял их, а главное, давал возможность и в пути, и по выводе лучше отдохнуть, пополниться и подготовиться. Меньший выигрыш времени получался потому, что разведка в гражданскую войну облегчена добровольными пособниками той и другой стороны, и, конечно, наступающий скоро узнавал, что перед ним. Раз завеса, начинал действовать энергичнее.
Я подчеркнул, что при этом способе сохранялись сплоченные части потому, что на несплоченные скверно влияет всякое отступление. Кроме того, нужно еще сказать, что на сохранение при отступлении всех вообще частей на Восточном фронте влияло в большей или меньшей степени, в зависимости от состояния их, то, что эти части создавались в покидаемой местности, там же пополнялись и, значит, уходили куда-то от своих домов.
При первоначальном отступлении от Белой в Западной армии, по-видимому, предполагалось задержать противника где-нибудь не далее Урала с тем, чтобы это не могло отразиться на фронте. Судить об этом можно по тому, что на ходу части продолжали пополняться и армия вела упорные бои на Урале. Когда же выяснилось, что на Урале не удержаться, по-видимому, решено было наметить какой-то пункт сосредоточения далеко в тылу и вывести части с фронта туда же. С назначением главнокомандующим генерала Дитерихса стало слышно, что будет отведена в район Тобольска – Ялотуровска Сибирская армия и что в районе Петропавловска будут сосредоточиваться как части Западной армии, отводимые с фронта, так и подвозимые из Сибири.
После оставления Уфы штаб Западной армии перешел на ст. Бердяуш. После городской суматохи можно было заняться армейскими делами боле внимательно. Западная армия отходила медленно, задерживаясь везде, где можно, и переходя местами в короткое контрнаступление. Красные усиленно устремились вклиниться в расположение между Сибирской и Западной армиями и давить на наш правый фланг, где была Уральская группа – наиболее слабая в армии. Настроение в армии во время отхода было угнетенное, но все же не плачевное. Теплые летние дни скрашивали многое. Части при отходе пополнялись из кадровых бригад. Состав части был таков, что боялись переходов к красным, перемен фронта, больше ничего. Командующий армией генерал Ханжин скоро ушел – был назначен генерал Сахаров, как и ожидали.
И в прежней роли начальника штаба, и новой командующего генерал Сахаров в общем на ближайшее время ставил в армии задачей: 1) На фронте удерживать противника, переходя в частичное контрнаступление везде, где будет возможно. Какие задания давала армии Ставка, мне неизвестно. 2) Создать армейский резерв, сформировать Егерскую бригаду, Егерский батальон и немного конницы. 3) Пополнить части, выбрав все готовое из кадровых бригад и добившись снабжения их. 4) Выхлопотать из Ставки часть дивизий, формировавшихся в тылу для того, чтобы иметь возможность сменять части или подготовиться к наступлению. 5) Переформировать офицерские пополнения. 6) Поднять работу органов снабжения в своем тылу и добиться упорядочения подачи всего из тыла. 7) Упорядочить состояние кадровых бригад, ускорить призыв людей и наладить посылку пополнений на фронт. Наладить более тесную связь в работе всех отделов штаба и тыловых органов. 8) Поднять дело пропаганды. 9) Разгрузить железную дорогу от громадного числа эшелонов, занятых различными штабами, полками, хозяйственными органами, организациями.
Пишу этот перечень, вспоминая то, что обсуждалось тогда и что проводилось в жизнь. Программа обширная, требующая для проведения не только решительных шагов, требовательности, постоянного контроля, но еще соответственного выбора исполнителей, дружной работы всех и каждого, поддержания духа пессимистов и еще достаточного времени и достаточных материальных и человеческих ресурсов. Увы, от программы до выполнения ее очень далеко. Генералом Сахаровым была проявлена исключительная требовательность, но остальное ему удалось лишь частично; многое осталось неосуществленными бумажными пожеланиями.
Фронт продвигался медленно на восток через Урал. Были возможности для нанесения ударов при отходе, но эти возможности ни разу не были использованы с значительными результатами. Штаб армии стремился держать в своих руках всякое движение войск и своими обычными директивами «упорно удерживать», «энергично перейти в наступление», «нанести стремительный удар» и т. д. не достигал желаемого. Командующие группами, по рассказам Каппеля и Войцеховского, часто не успевали даже расшифровывать директивы и отдавали свои распоряжения самостоятельно, учитывая обстановку на месте. Были неприятные случаи с выступлениями рабочих на некоторых уральских заводах. В волжских и уфимских частях такие выступления не производили большого впечатления, а Уральская группа нервничала. Эта группа, действовавшая на крайнем правом фланге, окончательно выдохлась и была для красных скорее обозначенным противником, чем действительно «упорно обороняющим» свои участки. И это имело большое значение потому, что красные всячески пытались добиться успеха, вклиняясь между Сибирской армией и Западной.
Уфимская группа была сначала отведена в резерв и пополнялась. В первых числах июля, когда Уральская группа отошла через горный проход первой гряды Урала, был организован частный контрудар, не давший результата. Волжская группа шла южнее железной дороги, задерживаясь при всякой возможности. Местами она имела большие потери. Кажется, в районе Сатки бы убит знакомый нам всем сподвижник Каппеля с первых дней его выступления на Волге, капитан-топограф Максимов, сам пожелавший командовать строевой частью.
Вторая задача – создание своими средствами армейского резерва – вовсе не удалась. Она требовала большого времени и средств. Генерал Сахаров хотел это сделать чуть ли не в две-три недели, использовать прибывших из тыла офицеров и солдат, получивших подготовку во Владивостоке. В результате были сформированы зачатки бригады и егерского батальона. При штабе армии были организованы особые курсы для офицеров, присылаемых из тыла, и пленных. Режим был в них введен строжайший; может быть, и был бы толк, если бы было достаточно времени. Начали работу, кажется, две офицерские школы для подготовки офицеров и унтер-офицеров. Пополнения на фронте шли согласно намеченной программе, но, увы, без шинелей (одеяла вместо шинелей). Недостаточно было и винтовок. Впрочем, последнее мало огорчало армейское командование, так как официальные данные о наличии оружия в частях всегда грешили в меньшую сторону и обычно люди в частях вооружались. Беда была в том, что благодаря этим утаиваниям трудно было различить, где правда, где ложь, и совершенно нельзя было точно урегулировать распределение винтовок. Кадровые бригады продолжали пополняться мобилизуемыми в прифронтовом районе, но без надежды, что они будут одеты как следует, хотя бы к окончанию срока обучения. Ставка обещала дать Сибирские дивизии на фронт в июле по особому расписанию.
Громадной работы и энергии требовала железная дорога. С одной стороны, постоянно требовались срочные перевозки, а с другой – дорогу загромождало громадное количество эшелонов, занятых различными штабами, хозорганами, организациями, беженцами, эвакуируемым имуществом. Пытались нормировать количество вагонов под крупные учреждения, принимались решительные меры для выбрасывания грузов из вагонов, а все же дорога была загромождена. И чем далее фронт продвигался к Востоку, тем положение становилось катастрофичнее.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽