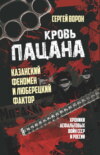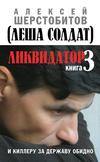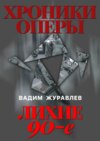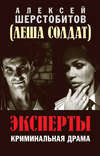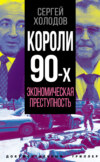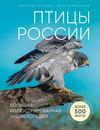Читать книгу: «Кровь пацана. Казанский феномен и люберецкий фактор. Хроники «асфальтовых» войн СССР и России», страница 4
Глава 7
Кошмар подмосковных «коммунаров»
Обычно для всех «любера» – это главная подмосковная молодежная сила. О них мы писали раньше, и было бы несправедливо забыть о других представителях молодежной криминальной субкультуры Подмосковья.
Известный социолог Сергей Белановский выделял их как одну отдельную молодежную банду, но был очень неправ.
Не знаю зачем известный социолог придумал историю, что «коммунаров» объединил вокруг себя бывший сотрудник милиции, почему его «коммунары» спасали девушек от люберов и «Ждани», зачем они патрулировали улицы Москвы… Кстати, товарищ социолог так и не сказал, откуда были эти самые «коммунары». По его версии – это один из районов Москвы. Да ничего подобного!
«Коммунары» были разные.
Лыткаринцы, совхозмосковские и, собственно, сами «коммунары». Просто позднее жизнь объединила их под одним названием, а в принципе они были обычной подмосковной шпаной. Оно (название) пошло от совхоза «Коммунарка» Ленинского района Московской области. Это всего 3 километра по Калужскому от МКАД, на юго-западе Москвы. В 1918 году там возникла сельская коммуна Феликса Эдмундовича Дзержинского «Коммунарка», которая впоследствии стала совхозом-миллионером с городскими домами и почти сельским укладом жизни, где молодежи делать было нечего. До армии многим было ещё далеко, похулиганить хотелось, учитывая то, что большинство крепких парней накачивали мышцы в спортзалах, которые они называли «конторы»… Поэтому была выбрана Москва, которая находилась на расстоянии крепкого кулака.
Начиналось всё довольно мирно – сбить гриву неформалу, подстричь хипаря-вонючку. Позднее это переросло в идеологию: «всё чуждое нам – это вражеское». Музыка, одежда, язык… Этим грамотно и воспользовались местные блатные, подзарядив крепких пацанов гонять фарцу и окучивать проституток. Заодно прилетало и мажорам, которым парни предлагали переодеться.
Очень скоро «коммунары» перешли к агрессивным действиям по отношению к первым кооператорам. Идея о социальном равенстве тогда ещё была в их головах – отнять и поделить. Но позже это стало банальным рэкетом – отнять и оставить себе.
Особого деления у «коммунаров» не было. Был один старший и несколько так называемых бригадиров. Поездка в Москву «покошмарить нефоров» называлась «дежурством». Что-то посерьезнее – «акцией».
Участие в «коммунарах» было добровольное. Работала система оповещения и связи. Одевались они по-разному. Главный критерий – должно быть удобно при «махаче».
Заканчивалось «коммунарство» обычно с уходом в армию. Аучитывая тот факт, что «коммунары» своё развитие получили во времена оказания братской помощи Афганистану, возвращались парни героями войны, получившими определенные навыки. Вот тогда сам Бог и намекал, что прямая дорога им в одну из подмосковных ОПГ.
И не стоит сравнивать «коммунаров» с «люберами». Они похожи, но они разные. Это новые герои Новой России…
Глава 8
Братские «патрули»
Для начала надо понимать, что такое город Братск. Это несколько крупных рабочих поселков, объединенных в город Братск в 1955 году во время строительства Братской ГЭС.
Заярск, Зелёный городок, Пурсей, Посёлок Энергетик, Посёлок Падун, Поселок Сухой, Осиповна, Правый берег и многие другие. Часть из них была затоплена, когда закончилось строительство плотины. А часть осталась городом.
Поселковая молодежь с самого начала воевала между собой. В основном это были драки в местных ДК на танцах. Одни приезжали и мутузили других, те отвечали, приехав к своим врагам в гости. Это было веселое время!
Кстати, в поселке Строитель, где жили осужденные «химики», и родилась песня «Снова гаснут ночные огни», ставшая на долгие годы неформальным гимном танцплощадок Братска.
В 1963 году в центре Братска был построен первый крупнопанельный дом, и началось всеобщее переселение. Город стал разрастаться вширь, и стали появляться микрорайоны. Произошло великое смешение поселковых парней. Вчерашние враги стали жить на одной лестничной площадке.
Вначале они, естественно, повоевали, а потом смирились. Именно тогда и появились так называемые «БРАТСКИЕ ПАТРУЛИ» для защиты подростков своего поселка, проживающих в одном районе.
К 70-м годам грань между поселковыми бандами стерлась, и стали появляться новые подростковые группировки: «первачи», «пятаки», «тридцать седьмая», «червонцы», «низы».
Самой жестокой из этих орав оказались «собаководы» («собачники»), получившие своё название от третьего микрорайона, на улицах которого, как нигде, много было собаководов. Основной площадкой для выгула собак и их сбора был пустырь у школы № 31. Молодежь на драки выходила со своими питомцами.
Вообще сам процесс «патрулирования» был банален и начинался с вопроса «Кого знаешь?»
А дальше – как кому повезло. Вначале это были парни с транзисторами, потом с магнитофонами… Но всё это были «шкеты», подростки школьного возраста.
Пацаны постарше дрались только в районах массового скопления представителей того или иного района. А такие места в Братске были. Вначале это был «пятак» на улице Мира. Потом к нему добавились каток на стадионе «Металлург» и две танцплощадки – за ДК «Лесохимик» и «клетка» за театром кукол. Там и разыгрывались нешуточные баталии.
В 80-х в Братск на какое-то время пришла мода на «телаги», от которых парни, участвовавшие в драках, отказались. Но опять же, это был скорее понт малолеток. «Патрули» рассекали в куртках-пуховиках и манботах-дутышах. Старших, как правило, у них не было. Это были легенды, о которых говорили, но в глаза не видели. По правилам Братска старшаки молодежь не трогали, поборы денег отсутствовали. Моментом окончания «патрулирования» можно было считать уход в армию. Оттуда парни возвращались, и те, кто выбрал криминальный путь, больше не дрались за свои дворы, они стреляли друг в друга за большие деньги.
Глава 9
Петрозаводские «макухи»
Вокзальские, тринага, черныга – вот боевые отряды петрозаводской молодежи 60-х годов, величавшей себя МАКУХАМИ.
Во главе каждой «макухи» стоял лидер, обычно самый физически крепкий товарищ, которого называли «мухач» – лучший боец.
Дрались парни между собой так… скорее, для проформы. Главными врагами для них были понаехавшие студенты техникумов, с которых они уже тогда, не стесняясь, собирали дань себе на киношку, танцули и портвешок.
Обычно драки происходили на нейтральных территориях. Главной боевой ареной для решения всех споров была танцплощадка в ПКиО – Парк культуры и отдыха, прозванная в народе «зверинцем».
Именно здесь в июле 1974 года и произошло великое петрозаводское побоище. Объединившиеся в одном порыве местные «макухи» накернули «речников» – курсантов Петрозаводского речного училища.
Причина была банальна – девушки, которые выбирали перспективных, красивых ребят в форме с хорошими манерами, напрочь отвергая ухаживания петрозаводской шпаны. Началось с одного удара, а дальше противоборствующие стороны сошлись стенка на стенку.
«Речники» запустили в ход армейские ремни, «макухи» вооружились штакетинами, вырванными из забора. Против дерущихся была применена автоцистерна с водометом.
На место происшествия прибыли армейские грузовики с солдатами, а также сотрудники МВД и КГБ вместе с местным партийным руководством.
«Макухи» загнали «речников» в училище и разбежались по домам. Точное число участников драки установить не удалось, но в тот день на танцплощадку было продано 4300 входных билетов.
Большинство участников побоища было привлечено к административной ответственности.
«Кабздец» «макухам» пришел молниеносно. «Голос Америки» сообщал о массовых молодежных волнениях в Петрозаводске, и местное начальство спустило на них всех собак. С этого момента за участие в «макушничестве» грозила реальная уголовная статья.
На этом дело кончилось, буйные сердца успокоились, и девок делить перестали…
Глава 10
Улан-Удинские Чан Кайши и Чингачгуки
Молодежные банды в советской Бурятии появились аж в 50-х годах XX века.
Местные жители преклонного возраста хорошо помнят «шмидтовских», «балтахиновских», «домспецовских», «партизанских», «заудинских»… Кастеты, велосипедные цепи, финки, ремни с бляхами, наколки и постоянные драки на танцах.
«Апокалипсис» начался в 70-х годах. Центр Бурятии Улан-Удэ стал превращаться в крупный промышленный центр Советского Союза. Стали приезжать русские специалисты, которые считали бурятскую молодежь немного туповатой. «Налим», «бурят – штаны горят» – обидные прозвища, надолго закрепившиеся за раскосыми парнями. Такую несправедливость терпеть было никак нельзя!
Юные «налимы» стали объединяться в группировки. Богатая молодежь из дома партийной элиты «Аквариум» стала называть себя «чан-кайшистами», или «чанками», в честь военного и политического деятеля Китая Чан Кайши.
Середняки взяли английское название – LST-63.
Но это было только начало… Бурятская молодежь по-прежнему оставалась в численном меньшинстве.
В начале 60-х за рекой Удой началось масштабное строительство пятиэтажек-«хрущёвок», куда переехали бурятские рабочие из сел и деревень, воспитанные на фильмах киностудии «ДЕФА» про индейцев. Так образовались новые банды: «хунхузы», «баргуты», «шошоны», «делавары», «гунны» и т. д., и т. п.
Все они собирались на местах сбора, которые называли «тайванями», и крошили друг другу морды, особенно не вылезая за мост, ведущий в центр.
Но общая вражда к «рюсский, мордой плюский» объединила их. Одни из них носили болоньевые плащи и туфли из ЧССР, другие – телогрейки и тапочки, но тем не менее в 1968 году они вместе вышли на мост через Уду с кличем «Уги-няс!» и отвоевали себе историческое место обитания в центре города. Были созданы общие законы, по которым стали существовать местные молодежные банды. Они не рвали с прохожих шапки, не обижали старших, были корректны с девушками и все проблемы решали в драке, при этом оставаясь друзьями «налимами». Также не допускалось влияние «мазеров», вожаков из блатных.
Каждая банда делилась по возрасту: «младшаки или шпана» (13–15 лет), «середняки» (школьники 16–17 лет и допризывная молодежь), «старшаки» (от 20 лет).
Но, как водится, мирного жития-бытия у них не сложилось. Очень скоро из «индейских» банд выплыла группировка «ГорТоп», которая вернулась к старым уголовным традициям. К ватникам снова добавились наколки, велосипедные цепи и желание отсидеть в тюрьме и получить почет. Это и есть прообраз современного движения «АУЕ»1. Национальный вопрос перестал быть главным при приеме в ту или иную группировку. В 70-х они уже враждовали между собой и палили друг в друга из обрезов.
«Чанки» к 80-м годам свое отдрались, выросли, получили образование, заняли должности. А вчерашние «индейцы», ставшие «гортоповцами» отсидели, стали работягами, некоторые спились, а потом пришли 90-е… Но это совсем другая история.
Глава 11
Дзержинские «гуляки»
Молодежь города Дзержинска Горьковской (ныне Нижегородской) области «гуляла», объединившись в несколько группировок, вступить в которые (подшиться) можно было добровольно по рекомендациям родственников, друзей, соседей или одноклассников. Никакой проверки при этом не проводилось.
К середине 80-х по Дзержинску «гуляли»:
– КБР (колхозники, борцы, ресторановские);
– СУП (староправдинские, урицкие, победенские);
– ОПУС (Октябрята, Поповские, Университетские, Строители);
– НАТО (будяга, школьник, водозаборка).
Каждая группировка состояла из молодежных дружин, во главе которых стоял Автор (непререкаемый авторитет):
– Огурцы (13–14 лет) – подростки, только набирающие боевой опыт в стычках на районе один на один;
– Микроны (15–16 лет), закаленные в групповых битвах бойцы, уже дравшиеся за свой район в пределах города;
– Центры (17–18 лет), опытные бойцы, которых уже «принимала» за хулиганство милиция;
– Старики (от 20 лет и старше), «бати» всех «гулящих», прошедшие армию, зону. Драться им было необязательно. Их авторитет был непререкаем.
Собирались пацаны на «пятаках» для решения повседневных задач – «обязаловок», включающих в себя:
– сборы. Сбор денежных средств в общий котел группировки. Можно было сэкономить на обедах, а можно было «отжать» у негуляющих «ломовых». Так проверяли преданность своей группировке;
– Дискач. Проверка готовности пацанов к групповым дракам;
– Базары. Вершина «обязаловок» – драка стенка на стенку с применением уличного оружия – колов, монтажек, ставок (самодельные гранаты из баллончика с сифоном) и проч.
В принадлежности к «гуляющим» были свои бонусы – почет в учебном заведении, свободное передвижение по району и, что немаловажно, внимание девушек! Минус был один, но огромный – не дай Бог оказаться на чужом асфальте.
Гуляли в Дзержинске до 90-х, продолжая славные традиции пацанов 70-х, которые запросто ломали клюшкой для хоккея с мячом «Ленинград» за 3 рубля 60 копеек черепа и ребра врагов своего района со словами: «С кем гуляешь?»
Глава 12
Волгоградские «коробки»
Волгоградскую молодежь всю дорогу пытались увести с улицы, несмотря на то что она туда неудержимо рвалась.
В послевоенное время в тогда ещё Сталинграде наметился явный всплеск криминальных настроений среди молодежи. Поднимая родной город из руин, юные сталинградцы работали на износ и пар выпускали в драках.
Решение было найдено быстро. Школы бокса и борьбы. Вчерашние выпускники ремесленных училищ увлеклись, но ненадолго. Скоро полученные у тренера знания они начали применять друг против друга в уличных драках.
А тут говнеца на вентилятор подбросила бериевская амнистия. В город стали прибывать вчерашние зэки. И снова решение было найдено… Более-менее сговорчивых спортсменов объединили в добровольные дружины, помогающие милиции. Подкинули деньжат, комнату, отпуск – и всё стало хорошо. Теперь спортсмены – юные помощники милиции – колошматили добровольных пособников бандитов.
Так и жили. Город был восстановлен. Появились новые районы. А старая ненависть осталась… Ведь одни фактически помогали сесть в тюрьму другим.
Это и стало началом знаменитых «сталинградских пробивок». Первооткрывателями драк «район на район» стали пацаны с Красного (Краснооктябрьский район) и шпана со Спартановки, которую поддержала молодежь Трактора (Тракторозаводской район). В большую драку вписались Дзержинка, Кировка, Центр. Бойцы объединялись в коалиции и месили друг друга. Над городом повисла мрачная проблема, которую срочно нужно было решить. И снова на помощь был призван спорт… Правда, на этот раз не силовой.
Ставка была сделана на волгоградскую футбольную команду «Ротор». Товарищи сверху посчитали, что «боление» на стадионе за городскую команду объединит районщиков. И, как ни странно, они оказались правы. Только вот объединение произошло очень своеобразно…
Аккурат перед Первым фестивалем дружбы молодежи СССР и ГДР в 1977 году 16 июня на Центральном стадионе проходил матч между «Ротором» и «Кубанью». Волгоградцам на трибунах показалось, что арбитр подсуживает гостям. Игра закончилась со счетом «1:0» в пользу «Кубани». Трибуны взорвались и пожелали расправиться с судьями матча. А когда это не получилось, разъяренная армия болельщиков начала громить стадион и его окрестности. Только вмешательство всей милиции города смогло остановить беспорядки, в которых по самым скромным подсчетам участвовало более 8 тысяч человек со всех районов города в едином порыве.
Молодых людей каким-то чудом удалось вернуть к себе на районы и, несмотря ни на что, провести фестиваль, не ударив в грязь лицом перед товарищами из ГДР. Но проблема никуда не делась. Теперь «пробивы» стали проходить у себя на районе. Дрались квадрат на квадрат, коробка на коробку, дом на дом. Иногда производились вылазки за город. От волгоградских районщиков стали страдать жители пригородов – Веселая Балка, Городищи, Тулак, Гумрак. Было несколько вылазок в город Волжский за плотиной. Надо срочно было что-то делать.
Волгоградский комсомол снова нашел нестандартное решение – сделать Волгоград городом рока. Начиная с начала восьмидесятых в городе на Волге стали проводиться рок-концерты. «Альфа», «Круиз», «Галактика», «Ария» и множество других металлических коллективов регулярно выступало во Дворце молодежи и во Дворце спорта. Проводились рок-фестивали… Но и рок город не примирил. Заряженная довольно агрессивной энергией после концерта молодежь хотела что-то громить. Потасовки после концертов вспыхивали постоянно. Затихшая война между районами вышла на новый уровень.
Но, несмотря на это, после каждого концерта молодые волгоградцы объединялись и громили город. Точку этому беспределу поставил сожженный и перевернутый посреди города в 1987 году после рок-концерта троллейбус. Рок оказался совсем не мирным. Впрочем, как ДНД и спорт…
Руководство города всерьез начало искать решение проблемы массовых молодежных драк и хулиганства. А пока оно думало, как обуздать молодые кулаки и горячие умы, нашелся человек, который придумал занятие, которое смогло отвлечь районщиков от драк за квадраты. Звали этого человека Виталий Васильевич Стариков, известный волгоградский тренер по греко-римской борьбе, запомнившийся волгоградцам больше как Казак. И занятие это называлось…
РЭКЕТ.
Кто-то пришел к Виталию Васильевичу, кто-то пошел к его конкурентам-боксерам. Так каждый молодой волгоградец, любивший «почесать» кулаки, нашел себя в новой большой «драке», когда надо было уже делить не квадраты и коробки, а весь город. Вот такая вот вышла волгоградская вечная молодость.
Казака убили в 1993 году, когда молодежь уже не дралась «коробка» на «коробку». Они мечтали из этих «коробок» уехать в частный дом, а лучше вообще из страны на дорогой иномарке. «Коробки» так и остались их обитателям, работягам, которым не драться надо было, а зарабатывать себе на кусок хлеба.
А зрелищ и так хватало – вчерашние «коробочки» друг в друга стреляли каждый день.
Бесплатный фрагмент закончился.