Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя
Текст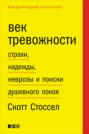


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 44,90 ₽
- Объем: 540 стр.
- Жанр: зарубежная психология, саморазвитие / личностный рост
А как вам это: даже Aplysia californica, морская улитка, беспозвоночное с зачаточным мозгом, демонстрирует физиологическую и поведенческую реакцию, биологически эквивалентную реакции тревоги у человека?{44} Дотроньтесь до улитки, и она сожмется, у нее повысится кровяное давление и участится сердцебиение. Тревога?
Или это: даже одноклеточные бактерии, у которых отсутствует не только мозг, но и нервы, демонстрируют приобретенный рефлекс – отклик, который в психиатрии называется реакцией избегания. Получив электрошоковое воздействие (негативный раздражитель) прудовая инфузория-туфелька отплывает и в дальнейшем старается к электрошокеру не приближаться. Это тревога? По некоторым определениям, да: в «Руководстве» «избегание» пугающих стимулов числится среди отличительных признаков почти всех тревожных расстройств.
Другие специалисты утверждают, что предполагаемые аналогии между животным и человеческим поведенческим откликом попросту притянуты за уши. «Совершенно не очевидно, что усиленная реакция испуга у крысы… служит продуктивной моделью для всех человеческих тревожных состояний», – говорит Джером Каган{45}. Дэвид Барлоу, руководитель Центра изучения тревожности и сопутствующих расстройств при Бостонском университете, задается вопросом: «Действительно ли невольный паралич под воздействием угрозы [животная реакция, для которой у человека имеются явные эволюционные и физиологические параллели] имеет что-то общее с дурными предчувствиями насчет нашего семейного благополучия, работы или финансов?»{46}
«Сколько гиппопотамов беспокоятся, не рухнет ли программа соцобеспечения раньше их выхода на пенсию, или не знают, как начать разговор на первом свидании?» – спрашивает Роберт Сапольски, нейробиолог из Стэнфордского университета{47}.
«Крысу не тревожит падение фондового рынка, – признает Джозеф Леду. – А нас – да»{48}.
Можно ли свести тревожность к чисто биологической или механической реакции, подобной инстинктивному поведенческому отклику крысы или морской улитки, бездумно уклоняющихся от электрошока, или Крошки Альберта, приученного, как собака Павлова, отшатываться и дрожать при виде пушистых зверьков? Или тревожность требует ощущения времени, представления о гипотетической угрозе, предчувствия будущих страданий – того самого деструктивного «страха перед будущим», который привел моего прадеда, а потом и меня в психиатрическую клинику?
Является ли тревога животным инстинктом, роднящим нас с крысами, ящерицами и амебами; приобретенным навыком, который вырабатывается посредством механического условного рефлекса? Или это все же исключительно человеческое свойство, требующее осознания (среди прочего) себя как личности и наличия представлений о смерти?
Врач и философ по-разному определили бы болезни души. Например, гнев для философа – это чувство, рожденное желанием отомстить за обиду, тогда как для врача это приток крови к сердцу.
Аристотель. О душе (IV в. до н. э.)[43]
В одно прекрасное утро, уже не первый месяц задаваясь всеми этими вопросами, я, одолеваемый беспокойством и самобичеванием, плюхаюсь на кушетку психотерапевта.
– Что такое? – спрашивает доктор В.
– Как мне писать книгу о тревожности, если я даже базового определения тревоги дать не могу? Я перелопатил тысячи страниц, нашел сотни определений, одни схожи между собой, в других сплошные противоречия. Я не знаю, какое брать за основу.
– Возьмите из «Руководства», – предлагает доктор.
– Но там ведь не определения, там просто перечни сопутствующих симптомов, – возражаю я[44]. – И потом, это все равно не поможет, поскольку «Руководство» сейчас пересматривается, скоро выйдет пятая редакция![45]
– Знаю, – грустно говорит доктор В. и начинает сетовать, что чиновники от психиатрии намерены в новом «Руководстве» перевести обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) из категории тревожных в новую категорию «импульсивных расстройств», к спектру таких заболеваний, как синдром Туретта. Доктору В. это кажется неправильным. – Все пациенты с ОКР, которые мне попадались за несколько десятилетий практики, всегда были тревожными. Они тревожатся из-за своих навязчивых синдромов.
Я привожу довод, услышанный несколькими неделями ранее на конференции: ОКР предполагается изгнать из категории тревожных расстройств в силу его существенных генетических и нейробиологических отличий.
– Черт бы побрал биомедицинскую психиатрию! – вырывается у доктора В.
Человек уравновешенный и мягкий, мой доктор исповедует «экуменический» подход к психотерапии: в своих научных работах и медицинской практике он пытается ассимилировать все лучшее из разных терапевтических методик в «комплексный подход к лечению израненной души», как он сам говорит. (Лучший врач на свете, заявляю сразу.) Однако он твердо уверен, что в последние несколько десятилетий биомедицина в общем и нейробиология в частности слишком много на себя берут и слишком все упрощают, выталкивая другие области исследования на обочину и переворачивая с ног на голову психотерапевтическую практику. Самые бескомпромиссные нейробиологи и психофармакологи, по его ощущениям, готовы разложить все умственные процессы на мельчайшие молекулярные компоненты, не принимая во внимание экзистенциальные глубины человеческого страдания и, собственно, смысл тревожных или депрессивных симптомов. На конференциях по тревожности, жалуется доктор В., львиная доля времени отводится под фармакологические и нейробиологические секции, спонсируемые во многих случаях фармацевтическими компаниями.
Я признаюсь доктору В., что готов отказаться от работы над книгой.
– Предупреждал ведь, что ничего у меня не получится.
– Это в вас говорит тревожность. Она заставляет вас переживать по поводу точного определения тревожности и бесконечно волноваться о результате («А вдруг мое определение тревожности окажется неправильным»), вместо того чтобы сосредоточиться на самой работе. Вам нужно переключить внимание. Не бросайте свой замысел!
– Но я по-прежнему не знаю, какое определение тревожности взять за основу.
– Берите мое, – предлагает доктор.
Тот, кого хоть раз одолевал длительный приступ тревоги, не усомнится в ее способности парализовать, обращать в бегство, отнимать радость и придавать мыслям катастрофическое направление. Он с готовностью подтвердит, как мучительны эти переживания. Хроническая или острая тревожность – это, помимо всего прочего, выбивающий из колеи поединок с болью.
Барри Вулф. Понимание и лечение тревожных расстройств (Understanding and Treating Anxiety Disorders, 2005)
На самом деле несколько лет назад я выбрал доктора В. именно потому, что заинтересовался его концепцией тревоги и его методы лечения показались мне более гибкими и менее идеологизированными, чем у предыдущих врачей, к которым я обращался. (А еще мне понравился добрый взгляд доктора на фотографии, украшающей обложку его книги.)
С работами доктора В. я познакомился на научной конференции по тревожности в Майами – увидел его недавнюю книгу на выставочном столике у входа в зал. И хотя книга эта, руководство по лечению тревожных расстройств, была адресована профессиональным психотерапевтам, его «комплексный» подход к тревожности подкупил и меня. А кроме того, после гор специализированной литературы по нейробиологии тревоги, где то и дело спотыкаешься на фразах вроде «Тета-активность – это ритмические разряды нейронной сети в гиппокампе и соседних с ним образованиях, которые в силу синхронности процессов в большом количестве клеток вызывают высокоразрядный квазисинусоидальный медленный тета-ритм (около 5–10 Гц у неанестезированной крысы), фиксирующийся в гиппокампальной формации при ряде поведенческих условий»{49}, – книга доктора В. поразила меня доходчивостью и живостью изложения, а его подход к пациентам – редкостной гуманностью. Среди разбираемых в его книге случаев я нашел и одолевающие меня проблемы: панические атаки, зависимость и сублимированный страх смерти, маскирующийся под боязнь более банальных вещей.
Я тогда только переехал из Бостона в Вашингтон и впервые за четверть века оказался без постоянного терапевта. Поэтому, прочитав в данных об авторе, что у него свой кабинет под Вашингтоном, я написал ему на электронную почту с вопросом, берет ли он новых пациентов.
Доктор В. не вылечил меня от тревожности. Однако утверждает, что вылечит, и в самые светлые моменты мне в это даже верится. А пока он вооружил меня действенными способами с ней справляться и полезными практическими советами, а также дал, пожалуй, самое главное, приемлемое определение – или способ систематизации определений – тревожности.
По мнению доктора В., соперничающие теории тревожности и подходы к ее лечению можно разделить на четыре основные категории: психоаналитическую, поведенческую или же когнитивно-поведенческую, биомедицинскую и эмпирическую[46].
Согласно психоаналитическому подходу (на ключевых аспектах которого, несмотря на массовый отказ от фрейдизма в научных кругах, по-прежнему строятся современные терапевтические беседы), к тревожности ведет подавление табуированных мыслей и идей (зачастую сексуального характера) или внутренних психических конфликтов. Лечение заключается в том, чтобы вывести эти загнанные вглубь конфликты в область сознательного, воздействовать на них психодинамическими методами терапии и добиться инсайта – интуитивного озарения.
Бихевиористы, как и Джон Уотсон в свое время, считают тревогу условной реакцией. Тревожные расстройства возникают, когда у нас вырабатывается (часто путем бессознательного научения) боязнь объективно безобидных предметов и явлений или чрезмерный страх перед небольшой угрозой. Лечение предполагает корректировку неправильного мышления посредством комбинирования экспозиционной терапии (нужно подвергаться страху и привыкать к нему, чтобы притуплялась реакция испуга) и когнитивного переструктурирования (смены хода мыслей), чтобы «погасить» фобию и «лишить катастрофичности» панические атаки и навязчивое беспокойство. По результатам многих исследований когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) признается самым безопасным и самым эффективным методом лечения многих форм депрессии и тревожных расстройств.
Биомедицинский подход (в последние 60 лет исследования в этой области проводятся с неутомимой активностью) занимается биологическими механизмами тревоги – такими структурами мозга, как миндалевидное тело, гиппокамп, голубое пятно, передняя поясная кора и островок, а также нейромедиаторами – серотонин, норэпинефрин, дофамин, глутамат, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и нейропептид Y (НПY) – и генетикой, которая все это кодирует. Лечение часто проводится с помощью медикаментов.
И наконец, направление, которое доктор В. называет эмпирическим. Его представители придерживаются экзистенциального принципа, считая панические атаки и навязчивое беспокойство защитными механизмами, которые психика вырабатывает при угрозе ее цельности или самооценке. Эмпирический подход, как и психоаналитический, большое значение придает сути и содержанию тревоги (в отличие от биомедицинского и поведенческого подходов, занимающихся ее механизмами), именно там ища ключи к скрытым психотравмам или убежденности в тщете собственного существования. Лечение предполагает управляемую релаксацию для уменьшения симптомов тревоги, а также помощь пациенту в изучении его тревог с целью обращения к стоящим за ними экзистенциальным проблемам.
Конфликты между этими направлениями, а также между психиатрами с медицинским дипломом и психологами-гуманитариями, между сторонниками и противниками медикаментов, между специалистами по КПТ и психоаналитиками, фрейдистами и юнгианцами, молекулярными нейробиологами и холистическими терапевтами протекают весьма ожесточенно. Ставки высоки: стабильность крупных профессиональных инфраструктур зависит от того, какая теория одержит верх над другими. Между тем основной камень преткновения – считать тревогу болезнью или духовной проблемой, телесным недугом или психическим – существует уже не один век, со времен споров между Гиппократом и Платоном, а также их последователями[47].
Однако, несмотря на многочисленные разногласия, все эти теории и направления не то чтобы взаимоисключающие. Во многом они пересекаются. Передовая когнитивно-поведенческая терапия заимствует что-то из биомедицины, поддерживая с помощью фармакологии экпозиционные методы. (Согласно исследованиям, лекарство под названием D-циклозерин, изначально разрабатывавшееся как антибиотик, помогает прочнее закрепляться в гиппокампе и миндалевидном теле новым воспоминаниям, тем самым усиливая способность экспозиции (когда пациент подвергается действию фобического стимула) гасить фобии за счет вытеснения пугающих ассоциаций новыми, более мощными, но не пугающими. Биомедицинское же направление, в свою очередь, постепенно признает способность медитаций и традиционных терапевтических бесед вызывать определенные структурные изменения в физиологии мозга – не менее «реальные», чем изменения, производимые таблетками и электрошоковой терапией. Согласно исследованию, опубликованному специалистами из Массачусетской больницы общего профиля в 2011 г., у испытуемых, в течение восьми недель уделявших медитации в среднем каких-нибудь 27 минут в день, наблюдались заметные изменения в структуре мозга. Благодаря медитации уменьшалась плотность миндалевидного тела{50}; эти физические изменения сопоставлялись с оценкой уровня стресса самими испытуемыми: по мере уменьшения плотности миндалевидного тела падал и уровень стресса. Другие исследования{51} выявили, что у буддийских монахов, в совершенстве владеющих медитацией, наблюдается гораздо более сильная, чем у обычных людей, активность в лобной коре и куда менее сильная активность в миндалевидном теле[48]. Медитация и практика глубокого дыхания действуют по тому же принципу, что и психотропные препараты, влияя не на абстрактные представления в сознании, а непосредственно на организм, на соматические корреляты наших ощущений. Недавние исследования показали, что даже обычные, проводимые по старинке терапевтические беседы способны привести к ощутимым физическим переменам в структуре мозга{52}. Возможно, Кьеркегор ошибался, и, «учась страшиться надлежащим образом», человек не «учится высшему», а просто обретает навык укрощать гиперактивность миндалевидного тела[49].
Дарвин отмечал, что аппарат, порождающий паническую тревогу у человека, имеет те же эволюционные корни, что и реакция «борьбы или бегства» у крысы или избегающие маневры морской улитки. А это значит, что тревога, каким бы философским и психологическим смыслом мы ее ни нагружали, может оказаться исключительно биологическим явлением, которое у человека не особенно отличается от животного аналога.
Что мы теряем/упускаем (если теряем/упускаем), сводя тревогу к набору ее физиологических составляющих – недостатку серотонина и дофамина или к избытку активности в миндалевидном теле и подкорковых ядрах? Теолог Пауль Тиллих в 1944 г. предположил, что Angst выступает естественной человеческой реакцией на «страх смерти, совести, вины, отчаяния, рутины и так далее»{53}. Для Тиллиха ключевой вопрос бытия звучал так: хранит нас некая небесная сила или мы бесцельно влачимся к смерти сквозь холодную, бездушную и безразличную вселенную? Может быть, чтобы обрести покой, достаточно всего лишь разобраться в этом вопросе? Или все куда приземленнее и главное – отрегулировать уровень серотонина в синапсах? Или это все один и тот же вопрос?
Пугливее человека нет, пожалуй, почти никого, поскольку к базовым страхам перед хищниками и враждебными сородичами у него добавляются порождаемые разумом экзистенциальные страхи.
Иренеус Айбль-Айбесфельдт. Этологические перспективы страха, защиты и агрессии у животных и человека (1990)
Некоторое время назад я отправил доктору В. электронное письмо с просьбой уложить в одну фразу определение тревоги, на лечении которой он специализируется уже 40 лет.
«Тревога, – написал доктор В., – это предчувствие будущего страдания, пугающее предчувствие невыносимой катастрофы, которую нет надежды предотвратить». Для доктора В. определяющей характеристикой тревоги, возвышающей ее над чисто животным инстинктом, выступает направленность в будущее. Здесь доктор В. сходится во мнении со многими ведущими разработчиками теорий эмоций (в частности, клинический психолог Роберт Плутчик, один из самых влиятельных исследователей в области эмоций XX в., определял тревогу как «сочетание предчувствия и страха») и отмечает, что Дарвин, хоть и подчеркивал поведенческое сходство между животными и человеком, полагал так же. «В ожидании страдания мы испытываем тревогу, – писал Дарвин в книге "О выражении эмоций у человека и животных". – Когда нет надежды на облегчение, мы отчаиваемся»[50]. У животных отсутствует абстрактное понятие будущего, равно как и абстрактное понятие тревоги и способность волноваться о своих страхах. Животное может испытывать «затруднение дыхания» при стрессе или «сердечные спазмы» (по выражению Фрейда), но волноваться об этих симптомах или как-то их интерпретировать оно не способно. И ипохондрия животному неведома.
Кроме того, животное не испытывает страха смерти. Крысы и морские улитки не держат в уме такие гипотетические опасности, как автомобильная авария или авиакатастрофа, теракт или ядерное уничтожение (а также остракизм, понижение в статусе, профессиональное фиаско, неизбежная потеря любимых и близких или бренность плоти). Все это наряду со способностью осознавать и осмысливать ощущение страха придает переживанию тревоги у человека экзистенциальную глубину, которая полностью отсутствует в «тревожной реакции» морской улитки. И для доктора В. эта экзистенциальная глубина имеет ключевое значение.
Доктор В. утверждает вслед за Фрейдом, что, в отличие от страха, вызываемого «действительными» угрозами извне, тревога порождается угрозами внутренними. Тревога, по формулировке доктора В., – «это сигнал, что обычная защита от неприемлемого мнения о себе не срабатывает». Не в силах принять суровую экзистенциальную действительность – рушится брак, не удалась карьера, организм неумолимо дряхлеет и смерть неизбежна – сознание, чтобы защититься и отвлечься, выдает порой тревожные симптомы, преобразуя душевное смятение в панические атаки, смутную общую тревожность или развивающиеся фобии, на которые мы проецируем внутренние бури. Как выявили недавние исследования, в тот момент, когда пациент начинает осознавать скрытый до того психический конфликт, вытаскивая его на свет из сумрака бессознательного, происходит целый ряд ощутимых физиологических перемен: падает давление и пульс, уменьшается электропроводность кожи, сокращается уровень гормонов стресса в крови{54}. Хронические физические симптомы – боль в спине, в животе, головная боль – часто пропадают сами собой, стоит пациенту лишь осознать свои «соматизированные», то есть преобразованные в физические симптомы, эмоциональные проблемы[51].
Однако, полагая, что тревожные расстройства, как правило, вырастают из неудавшихся попыток разрешить фундаментальные экзистенциальные дилеммы, доктор В., как мы еще убедимся, расходится во мнении с современной психофармакологией (доказывающей на основании 60-летних опытов с медикаментами, что тревога и депрессия – результат «химического дисбаланса»), нейробиологией (благодаря которой удалось продемонстрировать не только мозговую активность, связанную с различными эмоциональными состояниями, но и, в некоторых случаях, определенные структурные аномалии, связанные с психическими заболеваниями), исследованиями темперамента и молекулярной генетикой (довольно убедительно отстаивающей существенную роль наследственности, задающей исходный уровень тревожности и склонности к психическим заболеваниям).
Доктор В. не опровергает открытия ни в одной из этих областей науки. Медикаменты кажутся ему вполне эффективным способом лечения симптомов тревоги. Однако 30-летний опыт клинической работы с сотнями тревожных больных позволяет ему утверждать, что в основе клинической тревожности почти всегда лежит какой-то экзистенциальный кризис, вызванный так называемыми «онтологическими данностями» – перспективой старения, смерти, потери близких и любимых, вероятных профессиональных неудач, грозящих ударами по самолюбию; унизительными ситуациями, необходимостью искать смысл и цель в жизни и равновесие между личной свободой, душевным покоем, желаниями и ограничениями, которые накладывают на нас отношения и общество. И тогда боязнь крыс, змей, сыра или меда (да-да, меда: актер Ричард Бертон не мог находиться в одном помещении с медом, даже закупоренным в банку и закрытым в шкафу{55}) замещает наши глубинные экзистенциальные опасения проекцией на внешние обстоятельства.
В начале карьеры доктору В. довелось лечить второкурсника, который с детства готовился стать профессиональным пианистом, и когда преподаватели колледжа заявили, что ему не хватит таланта для осуществления своей мечты, у юноши начались страшные панические атаки. Доктор В. рассудил, что панические симптомы возникают из неспособности пациента примириться с глубинной экзистенциальной потерей – крахом профессиональных амбиций и надежды увидеть себя концертирующим пианистом. Лечение паники позволило студенту пережить отчаяние из-за потери и начать заново выстраивать себя как личность. У другого пациента, 43-летнего врача с процветающей практикой, развилось паническое расстройство, когда (почти сразу же после отъезда в колледж его старшего сына) он начал раз за разом получать травмы во время игры в теннис, в котором прежде был асом. Панику, по мнению доктора В., подпитывала двойная утрата (прощание с детством сына и собственной спортивной формой), что в совокупности вызывало экзистенциальное беспокойство о надвигающейся дряхлости и смерти. Помогая пациенту примириться с этими потерями и принять свою смертность и неизбежное угасание как «онтологическую» действительность, доктор В. помог ему избавиться от тревоги и депрессии[52].
Доктор В. считает, что тревожные и панические симптомы служат так называемым «защитным экраном» (Фрейд называл это «невротической защитой») от невыносимой боли, возникающей при столкновении с потерями, осознанием смертности или угрозами самооценке (самооценка в общих чертах совпадает с фрейдовским «эго»). В некоторых случаях острые тревожные или панические симптомы – это невротический отвлекающий маневр или способ совладать с негативным самовосприятием или ощущением несостоятельности («эго-ранами», как называет их доктор В.)
Мне предлагаемые доктором В. экзистенциальные интерпретации тревожных симптомов кажутся в некотором отношении интереснее превалирующих биомедицинских объяснений. Но довольно долго современная специальная литература по тревожности, куда больше внимания уделяющая «частоте нейронных "выстрелов" в миндалевидном теле и голубом пятне» (нейробиологический уклон), «укреплению серотонинэргической системы» и «блокировке глутаматной системы» (психофармакологический уклон), выявлению определенных «однонуклеотидных полиморфизмов» в различных генах, предопределяющих тревожный темперамент (уклон в психогенетику), чем вопросам экзистенциальным, казалась мне более научной и более убедительной, чем теория тревожности доктора В. Мне и сейчас так кажется. Но в меньшей степени.
Некоторое время назад на наших терапевтических сеансах мы с доктором В. стали осторожно подбираться к «воображаемому» подверганию как методу лечения моих фобий[53]. Выстроив иерархию пугающих ситуаций, мы с доктором В. начали «поэтапную десенсибилизацию», в ходе которой мне предлагалось представлять себе разные тревожащие картины, одновременно выполняя упражнение на релаксацию с глубоким дыханием, чтобы ослабить вызываемую этими картинами тревогу. Как только удавалось удержать образ в сознании и не впасть в панику, доктор В. расспрашивал меня об ощущениях.
Давалось это на удивление тяжело. Я сидел в полной безопасности в кабинете загородного дома доктора В. и мог прекратить упражнение в любую минуту, но проигрывать пугающие сценарии даже в воображении оказалось мучительно страшно. От самых несопоставимых с обстановкой стимулов – представить себя в кресле канатной дороги или в салоне самолета в зоне турбулентности; вообразить зеленое ведерко, которое ставили мне в детстве рядом с кроватью, когда у меня случалось расстройство желудка, – меня бросало в пот, и я начинал задыхаться. Тревожная реакция на эти исключительно воображаемые картины была такой сильной, что несколько раз мне приходилось выходить из кабинета доктора В. и гулять во дворе, чтобы успокоиться.
На этих десенсибилизационных сеансах доктор В. пытается выяснить, что именно вызывает у меня тревогу.
На этот вопрос мне ответить сложно. Даже во время воображаемого подвергания, не говоря уже о ситуации, когда я сталкиваюсь с «фобическим стимулом» в действительности, мне становится не до ответов на вопросы. Я ощущаю лишь всепоглощающий страх и одно-единственное желание – сбежать. От ужаса, от сознания, из собственного тела и из жизни[54].
На ряде сеансов происходило нечто неожиданное. Когда я пытался справиться с фобией, меня охватывала печаль. Я сидел на кушетке у доктора В. и, глубоко дыша, представлял себе какую-нибудь сцену из «десенсибилизационной иерархии», но мысли начинали блуждать.
– Что вы сейчас ощущаете? – спрашивал доктор В.
– Грусть, – говорил я.
– Прочувствуйте ее, – говорил доктор.
Через пару секунд я заходился в рыданиях.
Рассказываю, и самому стыдно. Во-первых, я, выходит, совсем хлюпик. Во-вторых, в волшебные эмоциональные прорывы и катарсическое очищение я не верю. Но честное слово, какое-то облегчение, сотрясаясь от рыданий, я испытывал.
Эта печаль накатывала при каждой попытке проделать упражнение.
– Что происходит? – спросил я доктора В. – Что это значит?
– Это значит, мы что-то нащупали, – ответил он, протягивая мне бумажный платок.
Да, знаю. Сам внутренне ежусь, когда такое рассказываю. Но в тот момент, когда я рыдал на кушетке, реплика доктора В. казалась удивительно обнадеживающей и действенной, и от этого я, растрогавшись, зарыдал еще сильнее.
– Мы расковыряли рану, – сказал он.
Доктор В., как и Фрейд, полагает, что тревожность может представлять собой адаптационный механизм, призванный защитить психику от иных источников печали или боли. Почему в таком случае, спрашиваю я, тревожность часто ощущается куда острее, чем печаль? Эта душевная «рана», которую мы якобы нащупали, хоть и доводит меня до слез, но мучает меньше, чем ужас, который охватывает меня в зоне турбулентности или при тошноте, и чем сепарационная тревожность, накрывавшая меня в детстве.
– Так часто бывает, – говорит доктор В.
Не знаю, как это расценивать. Почему мне становится легче – радостнее и относительно спокойнее – после копания в гипотетической «ране»?[55]
– Пока не известно, – говорит доктор В. – Но мы на верном пути.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽