Криминальная личность. Почему примерный семьянин может оказаться опасным преступником
Текст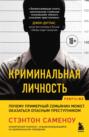


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 32,90 ₽
- Объем: 430 стр.
- Жанр: криминология, отраслевая психология
1. Неудачные попытки выявить причины преступности
Начиная работать клиническим психологом-исследователем, я считал, что люди становятся преступниками в основном в силу внешних факторов. Я видел в преступниках скорее жертв обстоятельств. В совместной работе с моим наставником, д-ром Йокельсоном, мы постепенно убеждались в полной ошибочности таких взглядов. Мы все более скептически относились к рассказам преступников, в которых они оправдывали содеянное ошибками других людей. Опрашивая людей, которые их хорошо знали, мы убеждались в обоснованности наших сомнений. Фактический материал, собранный в результате нескольких тысяч часов бесед с преступниками самого разнообразного социального происхождения, убедил нас в том, что наших священных теоретических коров пора отправлять на вечный покой. Мы называли себя «вынужденно переубедившимися», поскольку нам было очень трудно отказаться от своих предположений, взглядов и того, чему нас учили как профессионалов в части причин преступности. Как только мы перестали считать преступника жертвой, перед нами открылись новые горизонты. Высвободившись из пут вопросов о причинах, мы смогли обратиться к выработке понимания того, как мыслят преступники.
Мы приняли на вооружение подход «царапины на столе». Необязательно знать, почему стол поцарапан. Вместо того чтобы выяснять, каким именно образом ему нанесен ущерб, стоит озаботиться вопросом о том, из чего он сделан, и оценить его состояние с точки зрения ремонтопригодности. Как преступник принимает решения? Каковы его ожидания от себя и от других? Как получается, что в десять утра он молится в церкви, а два часа спустя терроризирует домовладельца в ходе совершения кражи со взломом? Поведение – это продукт мышления. Сконцентрировав внимание на образе мыслей, а не на причинах, мы постепенно заложили основы метода, который помог бы преступникам изменить свое мышление и поведение.
Исследования причин преступности могут продолжаться до бесконечности и в каком-то смысле сравнимы с поисками причин онкологических заболеваний. Считается, что установив причину любого озадачивающего и пугающего явления, можно будет устранить ее. В отличие от рака, не стоит надеяться на то, что мы откроем некое волшебное средство для искоренения преступности, даже если нам удастся выявить ее «первопричины». Увлечение поисками причин не столько способствовало созданию успешных стратегий борьбы с преступностью, сколько отвлекало внимание от понимания того, что представляет собой личность преступника.
Более века преобладало мнение о том, что преступники являются жертвами социологических, психологических или биологических факторов, над которыми они практически не властны. Некоторые социологи утверждают, что преступность представляет собой объяснимый, адаптивный и даже нормальный ответ на существование в условиях чудовищной нищеты, которая отбирает у людей любые надежды и возможности. С их слов, появлению преступности также способствуют стресс и агрессивность, присущие жизни окраин. Некоторые относят преступность на счет утраченных ценностей общества, которое отталкивает граждан от общественной жизни, работы и государственной власти. Психологи делают акцент на роли раннего опыта жизни в семье и указывают на родительские упущения как на причину криминального поведения. В девятнадцатом веке была выдвинута теория о том, что преступники появляются на свет «естественно ущербными». И сейчас, в двадцать первом веке, ученые возвращаются к этой идее, поскольку результаты исследований указывают на наличие биологических предпосылок криминального поведения.
В 1957 году автор текстов песен мюзикла «Вестсайдская история» Стивен Сондхайм спародировал тогдашние представления о причинах подростковой преступности в номере «Эх, офицер Крупке». Согласно песне, хулиганы не плохие, их просто не понимают. Они пострадали от «общественных язв», и общество сыграло с ними злую шутку. Текст намекал на взгляды, согласно которым преступность была проявлением скрытой психопатологии или социально-экономической обездоленности. В своей статье 1964 года известный психолог О. Хобарт Маурер поставил вопрос о том, не поощряет ли психоанализ социопатию (ныне официально именуемую «антисоциальное расстройство личности»), предоставляя все больше обоснований совершению преступления[2]. Он проиллюстрировал эту тему таким куплетом из самодеятельного творчества психиатров:
• В три года я питала двойственные чувства к братьям,
• Поэтому вполне естественно, что я отравила всех своих любовников.
• А теперь я живу счастливо, я извлекла из этого нужный урок:
• Во всем плохом, что я делаю, виноват кто-то другой.
Эти представления о причинах преступности, над которыми посмеивались еще в 1950-х, живы и по сей день. Каждый день в научных журналах или в СМИ появляются заголовки, указывающие на очередную предполагаемую причину преступности:
• «Недовольные молодые люди отождествляют себя с печально известными персонажами»[3].
• «Причиной смерти мальчика мог стать синдром раба»[4].
• «Жестокие игры порождают насилие»[5].
• «Вспышки гнева связаны с воспалительными процессами в организме»[6].
• «В основе эпизодов агрессии могут быть нарушения сна»[7].
• «Колу связывают с поведенческими проблемами маленьких детей»[8].
• «Пожилые японские преступники… виной всему одиночество»[9].
• «Сладости вызывают агрессивность у взрослых людей»[10].
• «Насильственные преступления и холестерин»[11].
Упорные поиски причин преступлений во внешней среде не прекращаются. 10 июня 2008 года газета St. Louis Post-Dispatch сообщила: «Возможно, в 1990-х годах преступность снизилась, поскольку за 20 лет до этого из бензина удалили свинец»[12]. Заголовок заметки в газете USA Today за 17 июля 2009 года гласил: «Топ-10 имен мальчиков, которые вырастают нехорошими людьми»[13]. А в статье в журнале Science News от 2 августа 2013 года говорилось, что изменения климата тесно взаимосвязаны с вооруженными конфликтами в разных странах мира[14].
Из всего бесчисленного множества аспектов внешней среды, которые называют стимулирующими факторами преступности, один постоянно находится в центре внимания общественности – это предполагаемая связь между сценами жестокости и насилия в кино и на телеэкранах и агрессивным поведением. Такая увязка не нова. Сорок два года назад в книге Фредерика Вертхема «Совращение невинных» комиксы были названы «учебниками для начинающих преступников»[15]. Агрессию и жестокость в кино, телепередачах и видеоиграх связывают с агрессивным поведением. Критики СМИ предлагают корректировать содержание газет, чтобы не стимулировать «подражающие убийства».
Миллионы людей видят сцены жестокости в кино и на телеэкранах. Уже более пятидесяти лет публика валом валит на фильмы о Джеймсе Бонде, которые пронизаны насилием. Миллионы детей и взрослых играют в агрессивные видеоигры. Однако сознательные люди не превращаются в убийц из-за того, что увидели на экране или на сцене.
Статистические данные свидетельствуют, что насильственная преступность в молодежной среде снижается при резком росте продаж видеоигр. В журнале The Harvard Mental School Letter за октябрь 2010 года приводятся исследовательские данные, показывающие, что «агрессивные видеоигры могут быть элементом нормального развития, особенно у мальчиков, и вполне оправданны как средство развлечения»[16]. А в постановлении Верховного суда от июня 2011 года о применимости защиты свободы слова к видеоиграм отдельно отмечено, что в психологических исследованиях агрессивных видеоигр есть методологические недостатки[17].
Убийства из подражания действительно случаются. 25 января 2014 года мужчина убил двоих людей и ранил одного в торговом центре города Коламбиа, штат Мэриленд. Газета The Baltimore Sun сообщила, что эту «серию убийств» вдохновил «расстрел 1999 года в школе Колумбайн» в Колорадо[18]. Стрелок открыл огонь точно в то же время, когда началась кровавая расправа в Колумбайне. Подражая одному из тамошних убийц, он покончил с собой выстрелом в рот. Печально известный расстрел в Колорадо продолжает оставаться в общественном сознании, и о нем известно миллионам людей. То же можно сказать и о последующих массовых убийствах – в кинотеатре колорадского города Орора, в начальной школе Сэнди Хук в Ньютауне и на верфи ВМФ в Вашингтоне. Но миллионам людей, узнавшим об этих ужасных событиях из СМИ, никогда не придет в голову мысль скопировать такое преступление. Критически важное значение имеет не то, что человек видит в кино, на телеэкране или на дисплее компьютера, а психологический настрой этого человека.
В научном сообществе дискуссии о причинах преступности стали еще изощреннее, и теперь в них редко выделяют какой-то один фактор. Вместо этого социологи сводят все воедино и говорят о «факторах риска», а преступность становится «биопсихосоциальным» явлением.
Чем же объясняется настолько устойчивая нацеленность на выявление причинной связи? Криминалист, сотрудник Секретной службы США (федеральное агентство США, занимающееся охраной высших должностных лиц и противодействием финансовым преступлениям) Кевин Даулинг высказался по поводу скомпрометировавшей себя идеи о том, что фазы Луны имеют количественно измеримое влияние на частоту случаев домашнего насилия[19]. Он пояснил, что подобные идеи возникают из-за «глубоко укорененной человеческой потребности обнаруживать легко узнаваемые закономерности в своем опыте и ощущать некий контроль над миром, хаотичным во всех других отношениях». Иными словами, если нам кажется, что мы знаем причину чего-то, что нас беспокоит, мы чувствуем себя лучше, даже если не можем ничего сделать с этим явлением как таковым.
Не существует единственного фактора или набора условий, которые адекватно объясняли бы причины преступного поведения. В своей книге о молодежной преступности социолог Роберт Макайвер пишет: «Задаваться вопросом о причинах любых правонарушений сродни тому, чтобы спрашивать, почему человек таков, каков он есть»[20]. Это датированное 1966 годом высказывание нисколько не утратило своей актуальности и в наши дни. Хотя активно формирующаяся научная область нейрокриминология, возможно, прольет свет на истоки преступности, за последние десятилетия мы так и не стали ближе к полноценному объяснению причинно-следственных связей.
Внешняя среда не порождает преступление
Самый ранний комментарий относительно причинно-следственной связи между бедностью и преступностью принадлежит римскому императору и философу Марку Аврелию (121–180), который сказал: «Бедность – мать преступлений». А заявлению бывшего генерального прокурора США Рамси Кларка «Нищета – первоисточник преступности» скоро исполнится полвека. Выступая в Национальной комиссии по причинам и предупреждению насильственных преступлений, Кларк расширил перечень причин преступности, сказав о «четкой связи между преступностью и бедностью, болезнями, плохими жилищными условиями, отсутствием равных возможностей, расовой сегрегацией, несправедливостью и отчаянием»[21]. Он провозгласил: «Следует побудить Америку к пониманию природы и причин преступности … и принять решительные меры по их устранению». Вслед за этим было принято множество государственных программ, направленных на повышение благосостояния людей, находящихся в удручающих жизненных условиях, о которых говорил Кларк. Несомненно, эти усилия принесли пользу многим людям и существенно облегчили им жизнь. Тем не менее преступность остается неразрешимой проблемой нашего общества. А фундаментальное убеждение в том, что причиной преступности является бедность, продолжает существовать.
Преступность не ограничивается рамками какой-то конкретной экономической, этнической, расовой или любой другой демографической группы. Большинство малоимущих не являются преступниками, но их немало среди состоятельных людей. Статистические данные Министерства юстиции за 2010 год показывают, что школьники из семей с годовым доходом в 75 000 долларов и более совершили почти в три раза больше краж, чем их сверстники из семей с годовым доходом менее 15 000 долларов[22]. Так называемые «беловоротничковые преступления» не являются чем-то новым. Они стали объектом широкого внимания СМИ в конце XIX века и продолжают совершаться в наши дни. Хотя наибольшую известность приобретают самые скандальные случаи, в нашем обществе издавна присутствуют аферисты и жулики, охотящиеся на доверчивых граждан, включая собственных родственников. Они поступают так не из-за бедности или дефицита возможностей, а именно потому, что уверены в своей уникальности и возможности игнорировать законы, обязательные для всех остальных.
Тем не менее общепринятое мнение о бедности как причине преступности, бытовавшее в 1950, 1960, 1970 и 1980-х, продолжает существовать. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН заявила о «ловушке преступности и бедности», в которую попадают некоторые регионы мира[23]. А в работе Джозефа Доннермайера и его коллег, опубликованной в 2006 году, указывалось, что преступности способствует «социальная дезорганизация»[24].
В числе причин преступности называли и богатство семьи, в которой воспитывался ребенок. 15 июня 2013 года пьяный техасский подросток сел за руль и насмерть задавил четверых пешеходов. На суде его адвокат сказал, что юноша подвержен депрессивному состоянию под названием «аффлюэнца»[25]. Он пояснил, что богатые и снисходительные родители были настолько погружены в собственные проблемы, что не ставили сыну никаких рамок. Соответственно, подросток не сознавал, что у проступков есть последствия. Разумеется, «аффлюэнца» не является реальным диагнозом и во многих кругах осуждается как «психологическая белиберда». Однако этот аргумент защиты сработал, и молодой человек не сел в тюрьму, отделавшись десятью годами условного срока.
В ходе двух последних десятилетий налицо небольшой сдвиг от мучительных раздумий о «коренных причинах» к выявлению так называемых факторов риска. Социолог Министерства юстиции США Майкл Шейдер отмечает, что, «потратив массу времени и сил на постижение единственной причины правонарушений, ученые в конечном итоге пришли к выводу, что таковой на самом деле не существует»[26]. Вместо этого они применили к преступности подход, доказавший свою успешность в медицине, и выделили ряд факторов риска.
В 2011 году американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) выпустил перечень, озаглавленный «Факторы риска совершения актов насилия молодыми людьми»[27]. В него вошли одиннадцать «личностных факторов риска», восемь «семейных факторов риска», шесть «социальных факторов риска» и шесть «территориальных факторов риска». ЦКПЗ специально оговорил, что «факторы риска не являются непосредственными причинами совершения актов насилия молодежью». В довольно беспорядочный перечень ЦКПЗ вошли практически все социальные и семейные неблагоприятные обстоятельства. Некоторые из этих «факторов риска» представляют собой жизненные ситуации, над которыми человек не властен, например «злоупотребляющие алкоголем и наркотиками родители» или «высокая концентрация малоимущих в месте проживания». Некоторые другие не следовало относить к «факторам риска», поскольку они описывают результаты. Например, «дружба со сверстниками-правонарушителями» не фактор риска. Это следствие выбора человека и характеристика молодых людей, совершающих преступления. «Антиобщественные взгляды и представления» не подвергают человека высокой степени риска. Слово «риск» в данном случае вообще избыточно, поскольку наличие у человека антиобщественных идей практически гарантирует, что его поведение будет наносить ущерб окружающим. «Участие в банде» предполагает занятие преступной деятельностью. Именно этим банды и занимаются, следовательно, это не фактор риска.
Вслед за идентификацией факторов риска ЦКПЗ перечисляет «защитные факторы», которые «ограждают молодых людей от рисков перехода к насильственным действиям». По сути, это антидоты факторов риска. Трудно понять, что нового содержит перечень защитных факторов ЦКПЗ, в который вошли такие пункты, как «высокий средний балл успеваемости», «позитивная социальная ориентация» и «прилежание в учебе». Не нужно быть социологом, чтобы понять, что в большинстве своем дети, которые хорошо учатся, дружат с сознательными сверстниками и делятся своими делами с родителями, вряд ли занимаются преступной деятельностью.
У человека может быть налицо масса факторов риска, и при этом он будет оставаться законопослушным гражданином. И наоборот – кто-то может совершать преступления при наличии многих и даже всех защитных факторов. Мне приходилось беседовать со взрослыми и подростками, которые занимались противоправными делами, хотя и демонстрировали следующие «защитные факторы»: «высокий уровень интеллекта», «высокая успеваемость», «религиозность» и «участие в общественной деятельности».
Наличие факторов криминального риска может стимулировать к самосовершенствованию и упорному труду. После многих лет работы я не перестаю удивляться как раз тому, что люди решают противостоять всем обстоятельствам и факторам риска, которые им преподносит жизнь. Я обследовал множество преступников, воспитывавшихся в обстановке нищеты и хаоса в районах, где оружие и наркотики можно было приобрести так же легко, как пачку сигарет. Им и их родным приходилось сталкиваться с трудностями, которые незнакомы людям из более благополучных семей. И практически у каждого из этих людей были братья или сестры с точно такими же факторами риска и проблемами, которые тем не менее не встали на путь преступлений. Многие из них видели, как их ближайшие родственники губят себя противозаконными делами, и сознательно выбирали для себя жизнь законопослушного человека.
Концепция факторов риска и защитных факторов применима, когда мы имеем дело с сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями. Но в том, что касается преступности, это старое вино в новых мехах. «Факторы риска» отбрасывают нас к мышлению, существующему уже много десятилетий и доказавшему свою несостоятельность.
Если считать, что бедность порождает преступность, то следовало ожидать, что экономический кризис 2008–2011 годов повлечет за собой взрывной рост количества преступлений. На самом же деле, к вящему замешательству криминологов, экономистов и политиков, число убийств в США упало до самого низкого уровня с 1964 года (следует заметить, что после биржевого краха 1929 года преступность также резко понизилась). Существенно снизилось и количество ограблений. Как заключил обозреватель газеты The Washington Post Ричард Коэн, «свежая статистика преступности убедительно свидетельствует о том, что плохие времена не обязательно порождают плохих людей. Их порождают плохие личные качества»[28].
Не так давно в научной литературе появился новый поворот сюжета о кажущейся связи между бедностью и преступностью, а именно, что преступность является причиной бедности. Например, если на дом человека нападают, грабят ценное имущество и калечат его самого, то экономические последствия этого будут скорее всего печальными. Помимо утраты собственности, этот домовладелец не сможет работать несколько недель или месяцев, ему придется оплатить дорогостоящее лечение, а затем направить скудные семейные средства на установку систем безопасности.
Изменения в конкретной среде могут понизить вероятность преступных проявлений. В статье в газете The Washington Post за март 2013 года рассказывалось о том, что в холодную погоду люди выходят из своих машин, не выключая двигатель[29]. По мнению сотрудника полиции, оставить ключи в замке зажигания – значит «предоставить прекрасную возможность любому из прохожих сесть в нее и уехать». Архитекторы, проектировщики и строители могут создавать безопасную среду, используя такие превентивные меры, как яркое уличное освещение, установка ригельных замков и полностью просматриваемые общие территории. Например, проектировщики вашингтонского метро избегали колонн и углублений в стенах, где могли бы прятаться злоумышленники.
Но преступник находит для себя возможности, где бы он ни был, даже в тюрьме. Если в данной конкретной обстановке совершить преступление затруднительно, он отправится куда-то еще. Попытки изменить преступников путем изменения обстановки остаются обреченными на неудачу.
Биологические факторы могут вносить свою лепту, но биология – это не судьба
В конце XIX века итальянский врач Чезаре Ломброзо объявил, что некоторые люди рождаются преступниками в силу устойчивых наследственных факторов. Он рассматривал преступников как биологическую аномалию, своего рода дикарей в цивилизованном обществе.
В 1924 году в Чикаго восемнадцатилетний Ричард Лейб и девятнадцатилетний Натан Леопольд зверски убили четырнадцатилетнего Бобби Фрэнкса. У этого преступления были все признаки бессмысленного убийства «ради острых ощущений». В речи на суде их адвокат Кларенс Дэрроу призвал не приговаривать молодых людей к смертной казни, назвав это преступление «деянием незрелых и нездоровых умов». В 1961 году психиатр Джордж Томпсон писал, что изучение психопатов «показывает наличие болезни мозга в 75 процентах случаев»[30]. А в 1972 году профессор социологии Кларенс Джеффри предрек «крупную революцию в криминологии» в будущих десятилетиях по мере того, как будет достигаться более ясное понимание биологических аспектов поведения[31].
На протяжении многих десятилетий считалось политически неправильным даже задумываться о том, какую роль могут играть в преступном поведении биологические факторы. Это было вызвано опасениями, что выявление криминальных генов может привести к селекции и генной инженерии, рецидиву нацистской евгеники. Теперь же, с появлением новой научной области – нейрокриминологии, пророчество Джеффри 1972 года можно считать сбывшимся.
В своей книге «Анатомия насилия» один из ведущих представителей нейрокриминологического направления д-р Эдриан Рэйни пишет: «У преступников действительно неисправен мозг, физически отличный от мозга остальных людей»[32]. Отмечая, что нарушения в деятельности префронтальной коры «могут прямо приводить к антиобщественному и агрессивному поведению», д-р Рэйни в то же время соглашается, что «ущербная префронтальная кора не всегда вызывает асоциальное поведение». Д-р Рэйни также установил, что пониженный сердечный ритм является «биомаркером диагноза расстройства поведения», после чего отметил, что «разумеется, не каждый человек с пониженным сердечным ритмом совершает насильственные преступления». Д-р Рэйни обращается к специалистам в области общественных наук с призывом «отказаться от своих давно устоявшихся взглядов и принять анатомию агрессии». Он настаивает, что сконцентрировать внимание на биологических факторах критически важно для разработки государственных мер и лечебных методик, которые «сработают быстрее и эффективнее, чем исправление социальных факторов, также способствующих криминальному поведению».
Другие теоретики и практики полагают, что нейробиология значительно больше обещает, чем дает на практике. В своей книге «Вынос мозга. Чарующее обаяние бездумной нейронауки» психиатр Салли Сэйтл ставит «острейшую проблему во всей истории науки», задаваясь вопросом: «Можно ли полностью постичь психологию, опираясь исключительно на нейрологические исследования?»[33] По замечанию д-ра Сэйтл, «умственную деятельность невозможно аккуратно расписать по отдельным областям головного мозга». Не отрицая «связь между мозгом и поведением», она предупреждает, что «налицо множество уровней воздействия на человеческое поведение помимо мозговой деятельности».
В современной нейробиологии основной упор делается на изучение формирования сознания головным мозгом. Однако верно и обратное – сознание формирует мозг. С точки зрения профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэвида Дейча, изменения в головном мозге имеют обратимый характер[34]. Например, если наркоман прекратит прием наркотиков, это окажет глубокое влияние на его мозг. В сентябре 2013 года Адам Гопник прокомментировал в The New York Times исследования мозга и сознания следующим образом: «Уроки нейробиологии состоят в том, что и мысли меняют мозг, и наоборот»[35]. Исследования приемных детей представили доказательства наследуемости криминальных наклонностей. Чаще всего ссылаются на данные масштабного исследования в Дании, которые в 1984-м обнародовал Сарнофф Медник из Университета Южной Каролины[36]. Д-р Медник установил, что усыновленные дети биологических родителей-преступников с большей вероятностью совершали преступления, чем усыновленные дети законопослушных биологических родителей. Позднейшие исследования приемных детей подтвердили его выводы.
Тем не менее биология – не судьба. Человек с биологической предрасположенностью к алкоголизму не обязательно становится алкоголиком. Люди с поражениями головного мозга, следствием которых бывает криминальное поведение, существуют, но далеко не все из них становятся преступниками. Как указывает д-р Рэйни, «одинаковая биология и темперамент могут приводить к различным жизненным итогам». Исследования нейрокриминологов заслуживают серьезного внимания. Равным образом как и предупреждение д-ра Сэйто о том, что мы можем «извлекать пользу из нейробиологии, не требуя от нее полного объяснения всей человеческой природы».
Как вы могли убедиться, существует бесконечное разнообразие теорий относительно возможных причин преступности. Далее последует путешествие в глубины криминального мышления. Если вы попробуете подойти к пониманию криминала непредвзято, возможно, вам не придется больше плутать в мириадах теорий, объясняющих, почему люди становятся преступниками. Вместо этого в центре вашего внимания окажется сам преступник, ход его мыслей и поведение в повседневной жизни. Это может помочь вам избежать связей с подобными людьми в деловой и личной жизни. Понимание особенностей криминального сознания крайне важно и для выработки мер государственной политики, и для того, чтобы помогать преступникам изменяться и становиться сознательными людьми.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽