В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке
Текст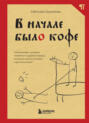


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 42,90 ₽
- Объем: 380 стр. 96 иллюстраций
- Жанр: русский язык, языкознание
Галлопередоз
Прежде всего предлагаю вспомнить те периоды в истории русского языка, когда волна заимствований была куда мощнее, чем сейчас. При этом язык не просто выстоял, но стал еще богаче.
Так, в XVIII – начале XIX века люди были подвержены галломании – моде на все французское, в том числе и на язык. Помните длинные разговоры аристократов в «Войне и мире», написанные на французском языке? Или Татьяну из «Евгения Онегина», которая «по-русски плохо знала, // Журналов наших не читала // И выражалася с трудом // На языке своем родном» и поэтому писала письмо Онегину по-французски[31]?
Частой была и ситуация, когда в русскую речь вставляли французские слова за неимением точного аналога в родном языке. И речь идет не просто о заимствованиях, которые перешли в русский язык, встроились в его систему и переняли его грамматические показатели, как, например, какой-нибудь «ноутбук», который стал обычным существительным мужского рода 2 склонения и приобрел соответствующие окончания – «ноутбука», «ноутбуку», «ноутбуком» и так далее, да еще и поменял ударение (в английском он «но́утбук»). Речь именно о скачках с русского на французский, как это иронично делает Пушкин в том же «Евгении Онегине»:
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut…[32] (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)
Шишков, которого здесь насмешливо упоминает Пушкин, – адмирал, писатель, публицист, министр народного просвещения и известный пурист того времени. Он активно выступал против заимствований и ратовал за сохранение славянизмов – слов и выражений, пришедших из церковнославянского языка («абие», «аще», «оный», «сие», «дебелый», «присно», «велелепие»), хотя сам употреблял далеко не все из них. Ему приписывают фразу – «Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой» («франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком»). Он ее, конечно, не говорил, но идеи Шишкова она, хоть и в гротескной форме, передает неплохо.
Если бы к Шишкову и его сторонникам прислушались, в русском языке не было бы таких заимствований из французского, как «абажур», «аванс», «авантюра», «автограф», «автомат», «агроном», «ажиотаж», «ажур», «акварель», «аккомпанемент», «аксессуар», «акт», «аллея», «альбом», «альянс», «амплуа», «амулет», «ансамбль», «антракт», «антресоль», «антураж», «анфилада», «апартаменты», «аплодисменты», «апломб», «аранжировка», «аспирант», «ассортимент», «афера», «афиша»…
Я сейчас перечислила заимствования XVIII – первой половины XIX веков только на первую букву алфавита (и то далеко не все), чтобы вы представили масштаб потока иностранных слов в то время.
Не было бы и многочисленных ка́лек с французского, то есть слов и выражений, переведенных по частям или полностью:
– впечатление (от фр. impression, где im – «в», pression – «печатанье»)[33];
– трогательный (от фр. touchant – «трогательный», которое, в свою очередь, образовано от глагола toucher – «трогать, касаться»)[34];
– насекомое (от фр. insecte из лат. insectum, первонач. – «насеченное, с насечками [животное]»)[35];
– дневник (от фр. journal – «поденный», «ежедневный», от jour – «день»)[36];
– утонченный (от фр. raffiné — «очищенный, утонченный»)[37];
– бросить в лицо (в значении «прямо и смело высказать что-то неприятное» – от фр. jeter à la face)[38];
– гадать на кофейной гуще (от фр. lire dans le marc de café)[39];
– сказать сквозь зубы (от фр. parler entre ses dents)[40];
– это делает честь кому-то (от фр. cela fait honneur à qn)[41];
– рыцарь без страха и упрека (от фр. chevalier sans peur et sans reproche)[42];
– называть вещи своими именами (от фр. appeler les choses par leurs noms)[43];
– быть не в своей тарелке (от фр. n’être pas dans son assiette)[44]. Любопытно, что это выражение возникло из-за неправильного перевода слова assiette, которое значило не только «тарелка», но и «посадка, положение тела при верховой езде» – поэтому французская фраза переводится как «быть не в своем (обычном) положении», то есть «потерять равновесие, устойчивость».
Особенно претило Шишкову слово «вкус» в значении «чувство прекрасного» («у него хороший вкус», «музыкальный вкус», «одеваться со вкусом») – тоже калька с французского goût[45]. В «Рассуждении о старом и новом российском слоге», самом известном своем труде, Шишков посвятил слову «вкус» несколько страниц, потому что «каким образом можно себе представить, чтоб вкус, то есть чувство языка или рта нашего, пребывало в музыке, или в платье, или в какой иной вещи?»[46]
Похоже на современные выпады против необычного использования слова «вкусный» («вкусный текст», «вкусная история»), не так ли? Признаюсь, что я и сама была к ним причастна – но осознав родство душ с Шишковым, поумерила прескриптивистский пыл. В конце концов, говорим же мы о ребенке, что он сладкий; о занудном человеке, что он душный; о решении, что оно свежее… Вот и «вкусный текст» – такая же, в сущности, метафоризация.
По сравнению с нынешней волной англицизмов, галломания XVIII – начала XIX веков кажется настоящей катастрофой. Именно на французском дворяне рассуждали о политике и объяснялись в любви: русский язык казался для таких разговоров слишком грубым, к тому же не обладающим необходимой лексикой. Не писали по-русски и научные сочинения: основным языком науки была латынь, также выходили работы на французском и на немецком. Происходило это по двум причинам: во-первых, сочинения на иностранном языке были доступны для чтения зарубежным коллегам, а во-вторых, в русском языке долгое время просто не было нужной научной терминологии.
Языку угрожает опасность только тогда, когда на нем не получается выразить всякую мысль – и он вытесняется из некоторых сфер общения.
И в XVIII веке русский язык к такой тревожной ситуации приблизился (во всяком случае, в среде образованных людей). Но все равно выстоял.
И, как ни парадоксально, сделал он это в том числе благодаря заимствованиям. В русском языке действительно не хватало слов для выражения многих ставших актуальными в то время понятий, и заимствования, органично в него интегрированные, пополнили лексику и помогли носителям остаться именно в рамках русского языка, а не перейти полностью на иностранный.
Так что заимствования в разумных количествах – очень полезная вещь. Необоснованные обвинения в порче языка из-за них были всегда – но и заимствования тоже были всегда. Потому что заимствования – часть любого живого языка, носители которого не изолированы от внешнего мира.
Ненужные заимствования язык все равно отбросит, а нужные его только обогатят. Критик В. Г. Белинский мудро подчеркивает эту мысль, иронизируя над взглядами А. П. Сумарокова – поэта и видного пуриста XVIII века: «Сумароков смеется над словами: фрукты, сервиз, антишамбера, камера, сюртук, суп, гувернанта, аманта, дама, валет, атут (козырь), роа (король), мокероваться, элож (похвала), принц, бурса, тоалет, пансив (задумчив), корреспонденция, кухмистр, том, эдиция, жени (то есть гений; под жени Сумароков понимал остроумие), бонсан (здравый смысл; Сумароков переводит рассуждение), эдюкация, манифик, деликатно, пассия[47].
Однако ж если многие из этих слов вывелись из употребления, зато многие и остались; гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить»[48].
Слова, которые оказались «приемными»
Если заглянуть в этимологические словари, можно выяснить, что многие привычные нам слова, кажущиеся что ни на есть русскими, исконными, тоже когда-то давно были заимствованы.
хлеб
Возможно, многим из вас знакомы эти строки Сергея Михалкова из стихотворения «Быль для детей»:
«Нет! – сказали мы фашистам, —
Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом “брот”».
Так вот: лингвисты любят над ними подтрунивать, потому что «хлеб» – заимствование. Да не откуда-нибудь, а из германских языков: в готском находим hlaifs, в древневерхненемецком – hleib с тем же значением[49]. Сейчас в заимствование трудно поверить, потому что оно произошло очень-очень давно – еще в праславянскую эпоху, до разделения славянских языков.
Те, кому очень не по душе факт заимствования слова «хлеб», могут возразить: «Так что же, славяне свой хлеб печь не умели?» Но нет же, скорее всего, умели – просто германское слово, видимо, обозначало хлеб, изготовленный по другому рецепту или по новой технологии, которая была заимствована вместе со словом.
суп
Да, такое, казалось бы, традиционное русское блюдо и обязательная, по мнению наших бабушек, часть обеда – это заимствование XVIII века из французского, но восходит оно тоже к соответствующему слову из германских языков. На готском supôn – «приправлять»: получается, буквально суп – кушанье, сдобренное специями[50].
пельмени
А это заимствование из финно-угорских языков, где «пель» – «ухо», а «нянь» – «хлеб». Выходит, пельмени – это «хлебные ушки»[51].
помидор
Это слово восходит к итальянскому роmо d᾽оrо («яблоко из золота») и исторически родственно «помаде»: помадой изначально называли лечебную мазь из яблок[52]. Второе название помидора – «томат» – еще экзотичнее: оно пришло, как и сам овощ, от ацтеков[53].
огурец
Соленый огурчик – это ведь наше, исконное! Ан нет: название овоща позаимствовано у греков. Их ἄγουρος («агурос»), в свою очередь, образован от слова ἄωρος («аорос») – «неспелый», «несозревший»[54]. А ведь и правда: огурцы вкусны, только пока они не пожелтели, не созрели окончательно.
собака
Не совсем ясно, откуда к нам пришло это слово – скорее всего, из иранских языков. Но это факт: во времена князя Владимира его никто не знал. И четвероногих друзей, и нехороших людей тогда называли псами[55].
лошадь
И этого слова во времена первых русских князей еще не было. Если бы вы спросили у древнерусского воина: «Где твоя лошадь?» – он бы вас не понял. Тогда знали только слова «конь» и «кобыла», а «лошадь» – заимствование из тюркских языков, где «алаша» значит «конь, мерин»[56].
князь
Это давнее заимствование из германских языков (в праславянскую эпоху, то есть до разделения славянских языков, таких заимствований было довольно много). По-древневерхненемецки kuning – «старейшина рода» (от kuni – «род»)[57].
царь
А это слово – не что иное, как измененное веками употребления и переходов из языка в язык имя Гая Юлия Цезаря. Слово «цезарь» перешло в разряд нарицательных и стало употребляться как титул уже во время правления Октавиана Августа, его внучатого племянника. Из латыни слово проникло в другие европейские языки. Отсюда же, кстати, слова «кайзер» и «кесарь».
В древнерусском языке слово первоначально употреблялось в варианте цhсарь, но позднее немного сократилось[58]. На Руси правители периодически называли себя царями, но первым официальным «Царем Всея Руси» стал только Иван Грозный в 1547 году.
богатырь
Нет, это не тот, кто, по выражению Михаила Задорнова, «Бога тырит» (о подобных теориях читайте во второй части книги). «Богатырь» – заимствование из тюркских языков: могучего воина там называли «багатур»[59].
шлем
Ошеломительно, но «шлем», или, как сказали бы древнерусские богатыри, «шелом», заимствован из германских языков (в древнегерманском шлем звучал как helmaz, в готском как hilms) и в буквальном переводе обозначает «то, что защищает»[60]. И да, «ошеломить» в первоначальном значении, по всей видимости, – «сильно ударить по шлему». Сравните с «поразить» – ведь это буквально «нанести удар», с «потрясти» – «несколько раз тряхнуть». Первоначально эти глаголы имели вполне конкретное значение физического воздействия, но позже приобрели значение «удивить»[61].
шапка
Слово «шапка» появляется в русском языке только около XIV века. А произошло оно от старофранцузского сhаре (в современном французском – chapeau), которое, в свою очередь, восходит к латинскому сарра – «головной убор»[62].
шуба
Сложно поверить, но у этого слова, буквально пропитанного духом русской зимы, южное происхождение: «джубба» – арабское название верхней одежды. Попало слово к нам благодаря европейским языкам. Как я уже отмечала, от этого же арабского слова, но через посредство других языков и с иными изменениями звуков, произошли «юбка», «жупан» и «зипун»[63].
кафтан
Еще одно слово, которое пришло с Востока: в тюркских языках находим kaftun – «длинное верхнее платье, халат»[64]. Слово «кафтан» начало употребляться даже позже, чем «шапка», – только с XV века.
сарафан
И это слово пришло из тюркских языков, а туда попало из персидского, где serāpā – «почетная одежда»[65]. Между прочим, у нас «сарафан» первоначально употреблялся в значении «длинный мужской кафтан». Например, в сарафане ходил царь Михаил Федорович.
терем
Название типично русской постройки – вероятнее всего, заимствование из греческого, где слово со значением «дом, жилище» произносилось как τέρεμνον («теремнон»).
церковь
Надеюсь, читатели не обвинят меня в оскорблении чувств верующих, но… «церковь» – тоже заимствование от германского *kirkō или *kirikō[66], а оно, в свою очередь, от греческого κυριακόν («кюриакон») – «господнее»[67]. В древних славянских текстах вы встретите не только слово «цьркы» («церковь»), но и «кърькы»[68], и тогда родство этого слова с немецкой «кирхой» станет очевиднее. А соответствие «к» и «ц» в этих словах примерно такое же, как в «кайзере» и «царе».
изба
Вот уж, казалось бы, самое русское из русских слов! Тем не менее это заимствование из германских языков, где было слово *stubа – «помещение с печью или баня»[69]. Отсюда же современное немецкое слово Stube – «комната». Как и в случае с хлебом, заимствование совсем не значит, что славяне не строили избы: просто, видимо, избой назвали какой-то новый вид постройки. Точнее, «истъбой» – именно так сначала выглядело древнерусское слово.
Сложно поверить, но когда-то все эти слова были так же чужды нашим предкам, как многим сейчас – «хайп» или «газлайтинг».
И, вопреки устойчивому мнению, обилие давних заимствований из греческого, германских и тюркских языков вовсе не говорит о том, что у славян был низкий уровень культуры и они не знали предметов, обозначаемых иностранным словом. Поэтому поговорим о том, зачем вообще нужны заимствования.
Нам что, своих слов не хватает?
Скорее всего, вы уже поняли: да, иногда действительно не хватает.
И вот в каких случаях мы заимствуем слова из других языков:
1. В родном языке нет аналога. Самый очевидный, но далеко не самый частый случай заимствования. Такие слова заимствуются вместе с предметом или явлением: когда в нашу жизнь приходит какое-нибудь иностранное изобретение, проще использовать то название, которое ему уже придумали на другом языке и под которым это изобретение стало известно в мире, чем сочинять свое. Например, так русский язык недавно заимствовал слова «мессенджер», «смартфон» или «хештег».
2. Аналог вроде бы есть, но он слишком неудобный. Громоздкий или труднопроизносимый. И тут вступает в силу закон речевой экономии: согласитесь, гораздо проще, особенно в устной речи, сказать «капслок» или просто «капс», чем употреблять словосочетание «прописные/большие буквы». Сказать «лайк» легче, чем «значок сердечка» или «кнопка “нравится”», «скрин» – проще, чем «снимок экрана», «кейс» – куда быстрее, чем «случай из практики, который наглядно демонстрирует какую-либо теорию».
3. Аналог не вполне точно отражает то значение, которое есть у заимствования. «Ресепшен», вопреки утверждениям из пуристских словариков, – это не то же самое, что «приемная». «Фуд-корт» – не то же, что «столовая». А «презерватив», вопреки заявлениям Владимира Жириновского, – не «предохранитель».
Приведу его очень показательную цитату полностью:
«Постоянно звучат иностранные слова. Дилер – посредник, бутик – лавка, мутон – овчина, от французского “овца”. Трейдер, сейл – ну что это такое? Вот менеджер – это приказчик! Презерватив – предохранитель. Я бы и слово “парикмахер” заменил. Кафе, бар, ресторан? Закусочная – вот прекрасное слово! Забежал, закусил, все понятно»[70].
Ну, что тут скажешь? Очень своеобразное предложение от прежнего лидера либерально-демократической партии. Но почему-то не «свободно-народного собрания»…
4. Аналог есть, но он оброс неприятными или не вполне уместными оттенками значения. «Клинер» звучит куда более нейтрально, чем «уборщица»: когда говорят «уборщица», представляется измученная женщина в грязном халате, а «клинер» – будто бы специалист с инновационными средствами для удаления пятен и новейшей моделью пылесоса.
Или у слова «модель» не так давно появился и другой смысл (помимо значения «образец»): так стали называть девушку, которая демонстрирует одежду на модных показах. Это слово пришло на смену «манекенщице», и неспроста: когда мы говорим «манекенщица», представляется дама, демонстрирующая наряды в Доме культуры, а чтобы рассказать о Кейт Мосс или Наталье Водяновой, хочется использовать другое слово, не нагруженное такими «советскими» ассоциациями.
5. Аналог перегружен большим количеством разных значений. В таком случае проще заимствовать иностранное слово, чем точно переводить его и прибавлять к уже существующим смыслам еще один. Например, так было заимствовано слово «сторис» (или «сториз»; слова нет в словарях, поэтому пока никто не знает, как писать). Его можно было бы перевести как «история», и некоторые так и делают, но тогда фразы вроде «Как тебе мои истории?» или «Больше всего люди любят истории об обычной жизни» начинают звучать слишком двусмысленно. «История» – очень многозначное слово: это и рассказ («рассказать смешную историю»), и ход развития чего-то («история нашей дружбы»), и наука («история Средних веков»). Поэтому в блогерской среде все же чаще используют слово «сторис»: это отдельное конкретное явление, для которого хочется иметь свое название.
6. У аналога нет необходимой сочетаемости. Лингвист Светлана Бурлак в лекциях часто приводит в пример слово «спонсор»[71]. Вроде как есть слово «меценат» (тоже заимствованное, но давно освоенное языком) – казалось бы, зачем еще и «спонсор»? Но проблема в том, что быть «меценатом чего-то» нельзя: не присоединяет это слово зависимые слова в родительном падеже (мы не говорим «меценат галереи» или «меценат выставки»).
Конечно, отличие мецената от спонсора еще и в том, что меценат оказывает помощь людям науки и искусства безвозмездно, а спонсор выделяет деньги ради рекламы. «Пиво “Балтика” – меценат футбольного матча» звучит довольно странно.
Можно было бы, конечно, расширить значения и сочетаемость слова «меценат», но язык распорядился иначе: видимо, оказалось необходимым разграничить «мецената» и «спонсора».
7. Аналог не такой яркий и звучный. Словечки вроде «хайп» делают высказывание эмоциональнее и резче, а с привычными «шумихой» или «ажиотажем» такого эффекта достичь не получится.
Конечно, злоупотребление новыми заимствованиями (какой-нибудь «брифинг о нейминге и кейсах продакшена») может звучать комично. Но и совсем отказываться от заимствований тоже нецелесообразно: речь без них станет пресной, как овсянка на воде.
А вот таблички в пуристских пабликах о русском языке, на которых перечеркнуто какое-нибудь заимствованное модное слово и вместо него предложено употреблять только привычные исконные аналоги («хейтер – злопыхатель, завистник, недоброжелатель, ненавистник, злословец, разжигатель ненависти»), вызывают только усмешку: кажется, что «недоброжелатели и злословцы» должны быть непременно «в мокроступах и с растопыркою».
Глава 4
Сленг – норм тема или отстой?
«Лол кек», «рарный айтем», «сасная тян»… Услышав нечто подобное в речи подростков, многие взрослые негодуют, воздевают руки к небу и восклицают примерно следующее: «Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык?»6[72]
Между тем это написал еще в 1828 году критик М. А. Дмитриев – да не о чем-нибудь, а о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Испокон веков в каждом поколении обязательно находятся те, кто ругает молодежь и считает, что она деградирует. И, конечно, якобы одно из ярких проявлений деградации – молодежный сленг. Удивительно, как человечество еще не вернулось к обезьяньему образу жизни[73].
И гораздо меньше распространена такая позиция, как у лингвиста Максима Кронгауза:
«А я, например, завидую всем этим “колбасить не по-детски”, “стопудово” и “атомно”, потому что говорить по-русски – значит не только “говорить правильно”, как время от времени требует канал “Культура”, но и с удовольствием, а значит, эмоционально и творчески (или, может быть, сейчас лучше сказать – креативно?)»[74].
А ведь если посмотреть на сленг под таким углом, окажется, что это очень интересный пласт лексики, созданный действительно небанально.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽