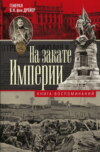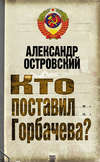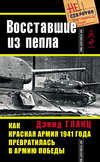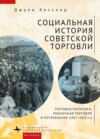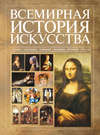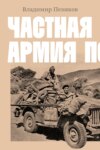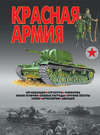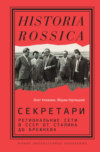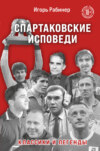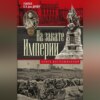Читать книгу: «На закате империи. Книга воспоминаний», страница 2
Туркестан. Артиллерийская бригада
Кажется, никогда в жизни так радостно не билось сердце, как в тот день, 12 августа 1896 года, когда, вернувшись в строю из Красного Села на Спасскую улицу, в свое училище, я облачился в форму подпоручика 8-й артиллерийской бригады. Отец и мать в это время были в Петербурге, приехав из Ташкента на мое производство и собираясь затем посетить Нижегородскую выставку10.
Кончив хорошо училище, я воспользовался правом взять артиллерийскую вакансию и, пробыв около месяца в Пултуске – жалком польском городишке, где стояла бригада, вскоре был переведен в Ташкент для совместной службы с отцом.
Для нас, уроженцев Туркестана, казалось, что на всем земном шаре не существовало подобного рая. Так мы любили свой край, его заброшенность за 2000 верст от первого большого европейского города Оренбурга, его климат, несложные развлечения, балы в военном собрании, где танцевали, а потом ужинали в саду, среди аромата цветов и белых акаций.
Четырехлетняя служба в Туркестанской артиллерийской бригаде не тяготила. Солдатам, несмотря на их пятилетнюю службу, жилось также хорошо. Кормили их на убой, в каждой батарее были летом свои огороды; зимой на праздники устраивались солдатские спектакли.
В те далекие времена, служа на окраинах, многие офицеры, к сожалению, спивались. В Ташкенте, где все же было большое общество и часто наезжали гастролирующие труппы то театра, то цирка, таких пьяниц встречалось немного. Моя батарея была в этом отношении, увы, менее благополучна.
Командир Илья Михайлович Окунев – Ила, как его называли, – громадного роста, весом в 120–130 кило, добряк, не способный убить и мухи, службу нес исправно, но только до двенадцати дня. В полдень кашевары приносили «пробу» в канцелярию, где мы четверо – он, заведующий канцелярией капитан Кислицкий, всегда в грязном, залитом на груди салом сюртуке, старший офицер, капитан Старов, и я основательно наедались щами с мясом и жирной рисовой кашей. После чего Ила Окунев, стесняясь, подходил к Кислицкому и негромко говорил:
– Михаил Павлович, дайте мне пять рублей.
Кислицкий, милый и очень добрый человек, поднимал на него удивленный взор:
– Илья Михайлович, но ведь я же вчера дал вам пять рублей.
Но все же открывал кошелек, и золотая монета моментально исчезала в широченной ладони командира.
Сразу повеселев, Илья Михайлович выходил на крыльцо и радостным голосом кричал на весь плац:
– Полищук, запрягай!
Командирская коляска давно дожидалась, запряженная, у конюшни, и Полищук лихо подкатывал к канцелярии.
Ила садился и, уезжая, предупреждал:
– В четыре часа я приеду на учения у орудий.
В это время его приятели и собутыльники уже пили водку и пиво в офицерском собрании, куда к часу дня приезжал наш командир и откуда его увозил Полищук прямо домой в 12 ночи. Кучер понимал, что командир в батарею не поедет, поэтому распрягал лошадей, водил на водопой, там же их кормил из торбы овсом, а как и чем питался сам, никто не знал.
Обучение батареи вели мы двое: я по конской части, капитан Старов по чисто артиллерийской.
Знаток своего дела, прекрасный офицер, отлично стрелявший на военном полигоне, Старов был настоящий запойный пьяница. Таким же пьяницей был в батарее и старший сверхсрочный писарь Кривоусов, непревзойденный знаток канцелярии и всех инструкций, касавшихся батарейного хозяйства, очень сложного.
Во всей бригаде никто не знал так делопроизводства, как этот пьяница-писарь. Оба они, и Старов, и Кривоусов, напивались примерно раз в два или три месяца, но тянулся этот запой с неделю, не меньше.
У каждого из них он происходил по-разному. Старов продолжал ходить, осоловевший, на службу, придираясь к каждому слову, лез на скандал, хлестал по лицу не понравившегося ему почему-либо солдата; за столом ничего не ел, только пил…
Кончил бедный Старов плохо. В 1899 году по окончании маневров, в присутствии помощника командующего войсками генерала Мациевского, был устроен завтрак для старших офицеров. По установленному обычаю, к концу завтрака начали произносить речи.
Окунев, носивший значок Военно-юридической академии, считал себя непревзойденным оратором и, хотя говорил много и нудно, никогда себе в этом удовольствии не отказывал. В конце стола, по чину, сидел и наш Старов с не прошедшим еще к концу маневров запоем.
Ила Окунев встал и, погладив себя по животу, запел:
– Ваше превосходительство, вот мы все здесь сидим, гуторим…
Вдруг на конце стола, выпучив оловянные глаза на своего командира, Старов отчетливо произносит два слова, заставившие оратора остановиться, а всех присутствующих затаить дыхание:
– К черту!
Опомнившись, все зашевелились, зашикали. Мациевский покраснел. Тогда Окунев еще громче начал свою речь:
– Ваше превосходительство, вот мы все здесь сидим, гуторим…
И тотчас же с другого конца последовало:
– К черту!
Начался скандал, Старова немедленно вывели, отправили домой, а затем велели подать в отставку11.
У писаря Кривоусова – он был женат – запой проходил совершенно по-иному. Он запирался дома (в Туркестан солдатам разрешалось привозить своих жен), тянул четверть за четвертью водку, никуда не выходил и только пел печальные песни церковного напева. Иногда ходил вокруг жены, как вокруг покойника, «кадил» пустой четвертью и пел «Со святыми упокой».
Пытались его вылечить. Однажды в казарме его заперли в отдельной комнате. Он высадил раму и чуть не сломал ноги, выпрыгнув с высоты трех метров. И все же его терпели, настолько в нормальном состоянии это был незаменимый человек.
* * *
Жизнь моя, молодого офицера Туркестанской артиллерийской бригады, протекала весело и беззаботно, служба была легка и приятна, начальство не притесняло. Отец занимал в то время, в чине полковника, должность правителя дел Туркестанского артиллерийского управления и считался вторым лицом после начальника артиллерии округа.
Единственный сын, я жил в своей семье, не знал никаких расходов, большую часть 55-рублевого жалованья тратил на экипировку, чтобы не отставать от щеголей-адъютантов туркестанского генерал-губернатора.
Но, встречая в собрании офицеров Генерального штаба, молодых, с обеспеченной военной карьерой, я с завистью смотрел на них, на их серебряные аксельбанты, академический значок и уже на втором году службы решил готовиться в академию.
Достав академическую программу, я пришел в смущение, увидев, что математике – науке, которую я презирал и в корпусе, и в военном училище, – там отведено весьма почтенное место. Поэтому, отложив алгебру и геометрию на конец подготовки, я начал с языков.
Приятелем и довольно частым собутыльником моего отца, когда тот после занятий у себя в управлении отправлялся в клуб – военное собрание – завтракать и играть на бильярде, с давних лет состоял француз Стифель.
Рафаил Рафаилович Стифель был известен во всем городе, как говорится, каждой собаке. Появившись в крае в 1880-х годах, вскоре после завоевания Ташкента Черняевым, Стифель в качестве коммивояжера исколесил на почтовых весь Туркестан. Говорят, что он продавал подтяжки, духи, предметы дамского туалета и в конце концов окончательно застрял в Ташкенте, где обрусел и крестился по православному обряду.
Невысокого роста, смуглый, всегда веселый, жизнерадостный, очень вежливый, интересный собеседник, он знал решительно все, что творилось в городе. Ни одна новость, ни одно событие и сплетня не могли укрыться от француза Стифеля.
Этот «Бобчинский», принятый в лучших домах ташкентского общества, целый день бегал от одних знакомых к другим, его с удовольствием кормили обедом, вечером ужином и оставляли играть в винт. Он жил уроками, брал один рубль в час, но сидел за эти деньги два-три часа, если ученик ему нравился. К деньгам Стифель был довольно равнодушен, тратил их в основном на свои костюмы и галстуки – это была его слабость. Никто не видел, чтобы он ухаживал за дамами или числился чьим-то поклонником, зато все знали, что он, подобно Генриху IV, неравнодушен к простым бабам и прачкам. Иногда он по секрету рассказывал, какое чудесное белье носит красавица, бывшая некогда фавориткой великого князя Николая Константиновича, – он видел это белье у своей прачки, развешанным на веревке.
Летом он щеголял в чесучовом костюме, всегда в новом галстуке и с цветком в петлице.
Стифель очень любил моего отца, человека большой эрудиции, незаменимого собеседника, и с удовольствием повторял всюду его bons mots12.
Как-то, позавтракав вдвоем с отцом в офицерском собрании, выпив водки и пива, Стифель разошелся и решил поставить «флакон» шампанского. Отец не остался в долгу, велел подать вторую бутылку и очень серьезно произнес:
– Я думаю, Рафаил, что нам грешно обижать старика Редерера13.
После чего последовали еще две бутылки.
Целая плеяда офицеров-туркестанцев, окончивших различные академии, была обязана этому французу, обучившему их своему родному языку.
С осени 1897 года Рафаил Рафаилович принялся за меня. Я оказался довольно хорошим учеником и через полгода уже мог немного объясняться, а через год свободно говорить по-французски. Учитель был страшно горд моими успехами и постоянно говорил, что я и Корнилов – его самые способные ученики. Будущий Верховный главнокомандующий Лавр Георгиевич Корнилов, офицер той же Туркестанской бригады, за три года перед этим уехал в академию, а в 1898 году, окончив ее с медалью, вернулся в Туркестан в штаб округа.
Как я говорил, Стифель не считался со временем, особенно если уроки начинались перед обедом или в ожидании обеда; у нас в то время в Туркестане обедали в час или в два дня и завтраков не было. Обучение проходило легко, и чем лучше я усваивал французский, тем веселее проходили уроки.
Рафаил без ума любил Францию, особенно Париж, где в его время увлекались оперетками Оффенбаха.
Он приходил в раж от воспоминаний, и почти не было урока, чтобы он не пел и не пританцовывал. Исполняя арии из опереток, толстый Стифель, вспотевший от волнения, поднимался на цыпочки и, приставив ладони трубочкой ко рту, надрывался… И закатывался смехом, вспоминая парижский театр Варьете.
Продолжая брать уроки французского языка, я постепенно принялся за всю программу, причем обнаружил, что математика если мне в юности и не давалась, то только потому, что я не усвоил основных начальных правил.
* * *
До поступления в академию полагалось при штабах каждого военного округа, то есть Петербургского, Московского и т. д., до самого отдаленного – а их в прежней России было тринадцать, – держать предварительный экзамен.
Весной 1900 года в Ташкент съехались со всего Туркестанского края двенадцать молодых офицеров всех родов оружия. Испытания проводили офицеры Генерального штаба, в большинстве молодежь, не забывшая наук, и проводили довольно строго. Из двенадцати кандидатов оказалось всего четыре, получившие право ехать в Петербург, и я в том числе.
Сделав одну из больших глупостей моей жизни, я в день отъезда в академию, 1 июля 1900 года, женился. И хотя это был брак по любви, я в 23 года далеко еще не отвык от беззаботной холостой жизни. Особенно это проявилось в первый год нашего пребывания в Петербурге, где мой богатый и холостой дядюшка Николай, кутила и весельчак, стал меня возить по дорогим ресторанам, кафешантанам и увеселительным заведениям.
Академия
Николаевская академия Генерального штаба, давшая России немало талантливых офицеров, находилась в 1900 году еще в старом здании на набережной Невы, возле Николаевского моста. Новое, на Песках, в тот год заканчивали строить.
Нас, будущих «моментов», со всех концов необъятной матушки России, приехало 360 человек, а в стены храма военной науки вошло только 160. Прочие, неудачники, получили обратные прогоны и отправились, огорченные, в свои части.
Экзамены были не труднее, чем при округе, но требовалась удача, самоуверенность при ответе и знание уловок каждого профессора.
По французскому языку экзаменовали двое. Один из них по фамилии Дюлу, блестящий молодой человек, одетый с иголочки, состоял профессором в Пажеском корпусе, Александровском лицее и, кажется, в Екатерининском институте благородных девиц, где пользовался большим успехом. Оперетки с пением моего друга Рафаила и знание арго очень помогли; Дюлу сделал мне несколько комплиментов и поставил полный балл. Свою педагогическую карьеру красавец-француз окончил трагически, на сибирской каторге, два или три года спустя. У него оказалось пристрастие к слишком молодым девицам, и это его погубило.
Особенно строгие экзамены были по русскому языку, где требовалось основательное знание правописания, и затем по математике, где два старичка-профессора Цингер и Шарнгорст резали без сожаления.
Сделавшись слушателями Академии Генерального штаба, мы скоро познакомились друг с другом и, разделенные на группы для тактических задач – а это был главный предмет нашего обучения, – приступили к слушанию лекций.
Вскоре обнаружилось, что большинство профессоров читают лекции наизусть по написанным ими учебникам. Поэтому многие из нас не считали интересным посещение лекций и, хотя это было обязательно, проводили время дома, а товарищи за них расписывались в особой книге. Изредка курсовой офицер проводил проверку, и тех, кто не оказывался налицо, отправляли на гауптвахту. Сутки пришлось отсидеть там и мне.
Практические занятия по тактике являлись делом серьезным, и не приходить на них не рекомендовалось.
Курс младшего класса состоял, главным образом, из истории военного искусства, тактики, геодезии, русского языка, администрации, статистики и артиллерии.
Главными предметами считались тактика и история военного искусства. Нужно было проштудировать около десяти объемистых томов этой науки. Курс античной истории читал полковник Баскаков, военную историю Средних веков – генерал Гейсман по прозвищу Гершка.
Появление на кафедре полковника Баскакова производило настоящую сенсацию. По происхождению донской казак, старовер, очень богатый по браку с дочерью известного в России предпринимателя, мукомола Парамонова, Баскаков, одетый с иголочки, в черном сюртуке, всегда новых аксельбантах, с громадным серебряным темляком на шашке, безукоризненных белых перчатках, смуглый, с бородкой клином, медленно входил, поднимался на кафедру и сразу, не кланяясь, начинал лекцию. Речь его тянулась плавно, без единой запинки, без заглядывания в конспект; он ходил из угла в угол и в течение часа не останавливаясь говорил.
Великие полководцы древности: Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь – в его изображении являлись действительно непревзойденными мастерами военного искусства. До сих пор помню, как он, описывая разгром персидского царя Дария Александром Македонским, важно изрекал:
– В это время Александр Македонский обрушился на его правый фланг.
Если впоследствии экзаменующемуся офицеру выпадал билет про походы этого полководца, то Баскаков, прерывая отвечающего, неизменно задавал вопрос:
– А чем важен был успех Александра Македонского в сражении при Арабеллах и Гавгамеллах?
– Он важен для характеристики эпохи, господин полковник.
Всякий другой ответ влек за собой неудовлетворительный балл, как бы хорошо ни отвечал на билет бедный офицер.
Из старшего курса в младший передавались специально составленные конспекты, где у каждого профессора были его любимые «рыбьи слова»; вопросы и ответы, которые нужно было вызубривать не менее, чем сами войны14.
У другого профессора, генерала Золотарева, в программе старшего курса следовало, например, на вопрос: «Что такое Минск?» – отвечать четырьмя словами, не больше: «Тыловой узел Северо-Западного театра», и успех был обеспечен, хотя перед этим экзаменующийся ковылял…
На старшем курсе войны Наполеона, кроме похода на Россию в 1812 году, излагал угрюмый, но очень благожелательный профессор Колюбакин, впоследствии вывезенный при большевиках с некоторыми профессорами в Сибирь в товарном вагоне. Говорили, что вагон этот остался забытым на какой-то станции, и все профессора, в том числе и старик Колюбакин, замерзли15.
Для Колюбакина Наполеон являлся величайшим полководцем всех времен и народов. А его операцию под Бауценом он почитал шедевром военного искусства. Если офицер знал твердо про Бауцен, то он, безусловно, мог рассчитывать на высший балл.
Когда при переходе на дополнительный курс я вытащил билет «Действия немецкой конницы под Марс-Латуром в 1870 году», то почувствовал свою гибель.
Франко-прусскую войну 1870 года читал полковник Данилов, называвшийся Данилов-Рыжий, в отличие от Данилова-Черного, впоследствии, во время Великой войны16, состоявшего в Ставке при великом князя Николае Николаевиче на должности генерал-квартирмейстера.
Данилов-Рыжий получил незадолго до экзаменов какое-то назначение, и за него экзаменовать должен был Колюбакин. Не зная деталей этого великолепного сражения под Марс-Латуром, но, вспомнив басню про ворону и лисицу, я сразу с апломбом ни к селу ни к городу начал: «А вот под Бауценом Наполеон…» Колюбакин сперва удивился, но потом удовольствие разлилось по его лицу, он долго меня не прерывал и под конец отпустил, поставив 11 баллов.
Блестяще читал историю конницы профессор, генерал Орлов, только что вернувшийся из Китая, где он сражался во время Боксерского восстания.
– Конница есть орудие богов, – так начинал свою лекцию Орлов, и речь его, полная образов, текла плавно, как ручей, вызывая всеобщее одобрение.
Бедному Орлову не очень повезло в Китае. Ренненкампф, его подчиненный, не выполняя приказаний, самостоятельно двинулся со своей казачьей бригадой и с налету взял Цицикар, Гирин, а затем и Харбин. Операция кончилась раньше, чем Орлов подошел со своей пехотой.
Два Георгиевских креста Ренненкампфу подтвердили правило, что победителей не судят. Орлов остался ни при чем.
Неудачи преследовали Орлова и в Японскую войну. В сражении под Ляояном он не проявил больших талантов, был отстранен Куропаткиным от командования дивизией и вернулся в Россию с приклеенной кличкой Орлов-Ляоянский.
Политическую историю России читал известный профессор Сергей Федорович Платонов, и читал так, что его лекции сбегались слушать все, кто был в этот час свободен в стенах академии.
Как известно, большевики не постеснялись расправиться со всемирно известным ученым, судили и затем выслали из Петрограда в Самару17, где он и окончил свое бренное существование.
Пробным камнем способностей каждого офицера и пригодности его к будущей службе в Генеральном штабе являлись практические занятия по тактике. Велись они группами по 6–9 человек, под руководством профессоров академии, курсовых офицеров или, за их недостатком, генштабистов столичного гарнизона.
Самым неприятным считалось попасть к Баскакову, человеку очень пристрастному. Он не выносил самостоятельных и самоуверенных офицеров и даже очень способных не стеснялся без сожаления резать.
При переходе на дополнительный курс самым важным испытанием являлись практические занятия в поле в районе Царского Села, Красносельского лагеря, Усть-Ижоры и так далее. Нам присылали лошадей из полков кавалерии с вестовыми; руководители давали тактические задания для решения на местности, и каждые 2–3 дня группа выезжала в поле, во всякую погоду, часто под проливным дождем.
На дополнительный курс перешли всего 70 человек из 160, поступивших в академию. Мы получили «птицу» – серебряный значок для ношения на груди – и гордо ходили по Питеру, считая себя без пяти минут офицерами Генерального штаба.
Три года в академии прошли незаметно. Я лично не очень утруждал себя зубрежкой, и только практические занятия отнимали сравнительно много времени, да подготовка к экзаменам, продолжавшаяся около полутора месяцев.
Дополнительный курс был самым интересным. Никаких лекций не читали, все ограничивалось разработкой на дому трех тем, причем на каждую из первых двух полагалось по два месяца, а на третью – три. Первая была исторического характера, вторая общевоенного, третья называлась стратегической и состояла из трех отделов: административного, статистического и чисто стратегического.
Попав к Баскакову на вторую тему и получив всего 8,5 балла, я впал в уныние и думал, что карьера моя окончена. Но на последней теме счастье мне улыбнулось. На мой доклад по стратегической теме пришел сам начальник академии генерал Глазов. Я получил полные 12 баллов и удостоился нескольких лестных слов:
– Поручик Дрейер, я смею думать, что из вас выйдет хороший офицер Генерального штаба.
Счастью моему не было границ, хотя из-за Баскакова я кончил академию далеко не первым.
* * *
Одним из приятнейших периодов моей жизни, безусловно, были три года, проведенные в Петербурге, где, не очень затрудняя себя в Академии Генерального штаба, я познал все прелести веселой столичной жизни.
Мой дядя не был «честных правил», из ресторанов не выходил, был известен всему кутящему Петербургу и частенько возил меня с собой. Едва мы появлялись на пороге «Медведя» или «Аквариума»18, как лицо швейцара расплывалось в широкую улыбку, и он, низко кланяясь, радостно вскрикивал: «Мое почтение, Николай Иванович!», зная, что при выходе из заведения Николай Иванович сунет ему в руку не двугривенный, а серебряный рубль. Татары-лакеи, завидев завсегдатая, кидались со всех ног, усаживая за лучший столик.
Завтрак, обед или ужин проходили весело, пока мой почтенный родственник не доходил до третьей бутылки «Клико». Тогда он ни на кого уже больше не обращал внимания и начинал беседу с татарином-лакеем на его родном языке. Уроженец и помещик Уфимской губернии, он отлично говорил по-татарски, и татары – а они-то и служили во всех лучших ресторанах Петербурга лакеями – питали самую горячую симпатию к земляку.
Когда обстановка позволяла, и особенно – в отдельных кабинетах Крестовского сада или «Аквариума», мой Николай Иванович, наговорившись с лакеями, затягивал свои уфимские песни. Пел он их соло, иногда хором с приятелями, за которых, кстати сказать, неизменно платил. Вокальная программа всегда начиналась заунывной песнью:
Наколола ноженьку на былинку…
Болит моя ноженька, да недолго,
Недолго, немало, три годочка
Уехал мой миленький в городочек.
В чистом поле яблонька не у места,
А я у мамашеньки не невеста…
Окончание мною Академии Генерального штаба по первому разряду было ознаменовано грандиозным кутежом в «Аквариуме», куда мой дядюшка просил позвать десяток моих ближайших товарищей по выпуску. Само собой разумеется, что по счету платил он. В отдельном кабинете шампанское лилось рекой, приглашенные певички-француженки канканировали; хоры, русский и цыганский, сменяли друг друга, метрдотель Заплаткин, которого Николай Иванович за глаза называл «светлая личность», разрывался на части, стараясь как можно лучше нам услужить.
В числе приглашенных находился мой коллега по выпуску Иван Павлович Романовский, впоследствии начальник штаба Деникина в Гражданской войне, убитый в 1920 году в Константинополе в русском посольстве неизвестным офицером19.