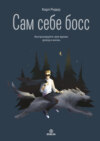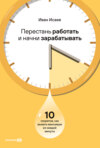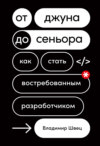Читать книгу: «Экзистенциальные пределы разума»
© Владислав Константинович Педдер, 2025
ISBN 978-5-0065-2861-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
Если вы любите истории со счастливым концом, вам лучше взять другую книгу. Она не успокоит вас в темные дни, когда вам плохо, здесь не будет веселья. Я бы мог предложить вам бежать к стеллажу, например, за историей про «счастливого эльфа». Но если вы не нуждаетесь в простом спокойствии любой ценой, а ищите куда более широкий взгляд на причины ваших тревог и ужасов, то эта книга для вас.
Для начала я хотел бы познакомиться с читателем. Будучи экономистом по образованию, я никогда не считал себя ни философом, ни ученым. Однако с ранних лет меня неизменно привлекали неразрешенные вопросы бытия. В поисках ответов я обращался к религии, философии и науке. Экзистенциальные кризисы, с которыми я сталкивался, толкали меня к размышлениям о смысле жизни и природе смерти, о том, есть ли у нашего существования сакральная цель. С годами, однако, я пришел к осознанию, что эти вопросы остаются без ответов.
Религиозные доктрины и многие философские течения, такие как экзистенциализм, порой казались мне слишком оптимистичными в их восприятии мира. Напротив, пессимисты представлялись куда более честными реалистами. Итогом этих размышлений стало мое погружение в труды философов-пессимистов и нигилистов. Сегодня меня знают в узких кругах как переводчика философских работ Петера Цапффе, включая его «О трагическом», а также статей, посвященных его наследию. Кроме того, я занимался переводами произведений таких мыслителей, как Эмиль Чоран и Дэвид Бенатар.
Мой интерес к их философии был вызван ощущением незавершенности. Прочитав практически всю доступную на русском языке литературу, я не мог избавиться от чувства, что пессимизм, каким бы правдивым он ни казался, всё же оставляет слишком много вопросов без ответа. Эти мысли усилились, когда я познакомился с творчеством Томаса Лиготти. Его труд «Заговор против человеческой расы» тогда показался мне логическим продолжением идей Шопенгауэра. Именно благодаря Лиготти я открыл для себя Петера Цапффе.
Однако вскоре выяснилось, что на русском языке о философии Цапффе практически ничего не известно, а из его работ переведено лишь короткое эссе «Последний мессия». В англоязычной среде ситуация ненамного лучше: главный труд Цапффе, «О трагическом», переводился с норвежского только в последние годы. Когда в 2024 году был издан его английский перевод, я понял, что ждать русскоязычного издания, вероятно, бессмысленно. Вдохновившись примером Лиготти, чья книга до сих пор доступна на русском лишь в любительском переводе, я приступил к собственной работе.
Мой перевод «О трагическом» был завершен в декабре 2024 года и распространяется бесплатно в интернете. Эта книга перевернула мои взгляды. Я понял, что то самое чувство незавершенности, которое преследовало меня во всех экзистенциальных философиях, исходило из их ограниченности, из рамок, которые они сами себе устанавливали которые Цапффе для себя не ставил.
В процессе перевода я осознал, что развитие идей пессимизма требует выхода за пределы этого мировоззрения. Так родилась моя собственная книга – не как продолжение пессимистической философии, а как её противопоставление. Это попытка преодолеть ограниченности и экзистенциального пессимизма, и нигилизма, предложив иной подход, способный привести к конструктивному осмыслению жизни.
Цель этой книги – исследовать природу экзистенциальных страхов, которые ограничивают наши способности предсказывать, осмысливать и адаптироваться к сложностям реальности. Эти страхи имеют биологический и когнитивный характер. Они не только задают рамки человеческого опыта, но и вызывают глубокие переживания, связанные с неопределённостью, конечностью и бессмысленностью.
Особое место уделено концепции предела человеческого прогнозирования, то есть точки, за которой разум оказывается неспособным интегрировать новое знание в привычные модели. Через эту призму анализируются ключевые философские концепции, нейробиологические механизмы и социальные стратегии, помогающие людям адаптироваться к неизбежным ограничениям. Ускорение научно-технического прогресса создаёт всё более сложные системы, которые трудно поддаются прогнозированию, а фундаментальные вопросы, такие как конечность жизни, значение смерти и поиск смысла, остаются центральными для человеческого существования, несмотря на достижения науки. В условиях глобальных кризисов – от экологических катастроф до угроз искусственного интеллекта – понимание наших когнитивных и философских барьеров становится жизненно важным.
Эта работа также является попыткой познакомить российского читателя с философией трагического Петера Цапффе, норвежского мыслителя и защитника окружающей среды. Его идеи, несмотря на неверные трактовки, часто воспринимаются как проявление пессимизма или нигилизма, хотя сам Цапффе никогда не придерживался этих позиций. Анализ его философии позволяет по-новому взглянуть на вопросы, связанные с ограничениями человеческого существования, и предложить подходы к их осмыслению.
Книга исследует, как из хаоса сформировался привычный нам мир, мы и наша способность осмысливать реальность. Анализируются механизмы, с помощью которых люди избегают или борются с реальностью. Наконец, работа рассматривает вызовы будущего, включая роль трансгуманизма, искусственного интеллекта и научных гипотез, которые бросают вызов человеческому пониманию.
Эта книга адресована всем, кто интересуется философией, когнитивными науками и вопросами человеческого существования. Она станет проводником в исследовании сложных вопросов, позволяя глубже понять не только границы разума, но и пути их осмысления и преодоления.
Глава 1. Слепое усложнение
В данной главе пойдёт речь о фундаментальных основах, с которых начинается история усложнения материи. Мы рассмотрим, как из первичных форм вещества зарождались сложные структуры, приведшие к возникновению жизни, разума и осознания. Эта глава посвящена истокам всего существующего и их роли в формировании сложного мира, который мы наблюдаем сегодня.
Этот рассказ был необходим, поскольку все далее обсуждаемые темы начали свой ход с того, где и в какой форме появилось первое вещество. Всё, что произошло впоследствии, – лишь его усложнение, результат естественного развития. Без понимания этого будет сложно до конца осмыслить те философские и экзистенциальные вопросы, которые затрагиваются в книге.
Если вы уже знакомы с этой историей, или по каким-то причинам вас это не интересует, то можете сразу перейти к 4 пункту Первой главы – «Теория прогнозирующего кодирования и её роль в нейробиологии».
В течение многих веков человечество пыталось понять происхождение мира и жизни. Ранние представления часто объясняли всё существующее как результат замысла высшей силы. В античные времена философы, такие как Платон и Аристотель, искали порядок и цель в природе, предполагая, что мир был устроен по некой разумной причине. Средневековье принесло с собой идеи о божественном творении, в которых жизнь и вся Вселенная считались результатом творческого акта Бога.
Однако с развитием науки в новое время эти представления начали оспариваться. В XIX веке Чарльз Дарвин предложил свою теорию эволюции через естественный отбор, которая перевернула представление о мире и жизни. Дарвин показал, что разнообразие форм жизни не является результатом какого-то конкретного замысла, а скорее, следствием случайных мутаций и отбора, который обеспечивает выживание наиболее приспособленных особей. Эволюция, как он утверждал, не имеет конечной цели и не движется к совершенству, она – это непрерывный процесс изменений, где каждое поколение адаптируется к изменяющимся условиям.
Однако, несмотря на научные объяснения, многие продолжали искать цели и смысл в процессе эволюции. Наука, вооружённая бритвой Оккама1, не только устранила из уравнения идею божественного замысла, но и саму концепцию конечной цели. Эволюционный биолог Ричард Докинз, развивая этот подход, использует метафору «слепого часовщика», чтобы объяснить, что эволюция – это не целенаправленный процесс, а случайный и бессознательный механизм, в котором нет заранее определённой цели или замысла, но который тем не менее приводит к сложным и организованным результатам. Он писал:
Эволюция не имеет никаких долговременных целей. Не существует никаких отдалённых целей, никакого финального совершенства, которое могло бы служить критерием отбора, хотя человеческое тщеславие и лелеет абсурдную мысль о том, что наш вид является заключительной целью эволюции. В реальной жизни критерий для отбора всегда краткосрочен – это простое выживание; или строже говоря – репродуктивный успех. То, что по прошествии геологических эпох ретроспективно выглядит как движение к достижению какой-то отдалённой цели, на деле же – всегда побочное следствие многих поколений краткосрочного отбора. Наш «часовщик» – нарастающий естественный отбор – слеп к будущему и не имеет никаких долговременных целей.
Об этом мы и поговорим далее.
1. Возникновение сложного мира
1.1 Самоорганизация и отсутствие цели
Современное научное представление об устройстве Вселенной отвергает идею о целенаправленности или изначальном замысле. Вместо этого мир, каким мы его знаем, является результатом процессов самоорганизации и постепенного усложнения, происходящих в рамках физических законов. Эти процессы не были вызваны внешней целью, а развивались из-за взаимодействий множества элементов в огромных временных масштабах.
Фундаментальные открытия в физике и космологии показали, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва около 13,8 миллиардов лет назад. Концепция Большого взрыва была впервые предложена бельгийским учёным Жоржем Леметром в 1927 году и получила подтверждение в 1965 году, когда Арно Пензиас и Роберт Вилсон обнаружили реликтовое излучение.
На начальных этапах существования Вселенной материя и энергия были распределены хаотично и однородно. Со временем, в результате флуктуаций плотности и действия гравитации, начали образовываться первые структуры: скопления газа, звёзды и галактики. Эти процессы были естественным следствием физических законов, таких как термодинамика и гравитация, а не результатом какого-либо замысла.
1.2 Роль энтропии и усложнение систем
Ключевым понятием, объясняющим усложнение Вселенной, является энтропия. Согласно второму закону термодинамики, сформулированному в 1850-х годах Рудольфом Клаузиусом, энтропия (мера беспорядка) в изолированных системах стремится возрастать. Однако это не означает, что порядок невозможен. Локально могут возникать организованные структуры, если это сопровождается увеличением энтропии в окружающей среде. Например, формирование звёзд и планет сопровождается выделением энергии и увеличением энтропии в окружающем пространстве.
Таким образом, сложные системы возникают как побочный эффект стремления Вселенной к состоянию равновесия и максимального беспорядка. Из простых взаимодействий и процессов самоорганизации постепенно возникают более сложные структуры и узоры.
1.3 Хаос и нелинейные динамические системы
Дальнейшее понимание возникновения сложности связано с изучением нелинейных динамических систем и теории хаоса. В 1963 году американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц обнаружил, что малые изменения начальных условий могут приводить к значительным и непредсказуемым последствиям (эффект бабочки). Это объясняет, как из простых физических законов могли возникнуть чрезвычайно сложные явления, такие как климатические системы, галактические структуры и, в конечном итоге, химические процессы, ведущие к жизни.
Хаотические системы, несмотря на их кажущуюся непредсказуемость, подчиняются определённым правилам и могут демонстрировать самоорганизующиеся паттерны. Примеры включают снежинки, молнии, фракталы и турбулентные потоки. Эти процессы показывают, что сложность может возникать спонтанно без внешнего управления или цели.
1.4 Вселенная как химическое усложнение
После формирования первых звёзд начался процесс синтеза более тяжёлых элементов из водорода и гелия. В результате термоядерных реакций внутри звёзд возникли элементы, необходимые для возникновения жизни: углерод, кислород, азот и другие. Этот процесс, известный как звёздный нуклеосинтез, был объяснён в середине XX века Фредом Хойлом и его коллегами.
Когда массивные звёзды взрывались как сверхновые, эти элементы рассеивались по Вселенной, становясь строительным материалом для новых звёзд, планет и, в конечном итоге, живых организмов.
Таким образом, усложнение Вселенной происходило в несколько этапов:
– Физическое усложнение – образование галактик, звёзд и планет из первичного газа.
– Химическое усложнение – синтез более сложных химических элементов и соединений.
– Структурное усложнение – формирование сложных молекул и, в конечном итоге, условий для возникновения жизни.
Эти этапы не были направлены к определённой цели, но создавали условия для дальнейших процессов, включая биологическую эволюцию.
1.5 Вывод
Возникновение сложного мира – это история самоорганизации, основанной на физических законах. Из хаотичных и простых состояний через миллиарды лет взаимодействий и увеличения энтропии возникла Вселенная, богатая разнообразием структур и процессов. Это заложило основу для следующего этапа – возникновения жизни.
2. Возникновение жизни
2.1 Самопроизвольное возникновение жизни и отсутствие цели
Современная наука утверждает, что жизнь возникла в результате естественных химических процессов, а не благодаря целенаправленному действию или высшему замыслу. Примерно 3,5—4 миллиарда лет назад на Земле появились первые признаки жизни, и процесс, приведший к этому, называется абиогенезом – самопроизвольным возникновением живых систем из неживой материи.
Гипотеза о «первичном бульоне», предложенная Александром Опариным и Джоном Холдейном, стала основой для изучения условий ранней Земли, которые могли способствовать возникновению органических молекул. Эксперимент Миллера-Юри (1953) продемонстрировал, что при воздействии электрических разрядов на смесь газов, содержащих аммиак, метан и водород, образуются аминокислоты, являющиеся строительными блоками белков.
Эти химические реакции не были направлены на достижение какой-либо цели, а происходили в результате взаимодействий молекул, подчиняясь природным физическим законам. Постепенно из этих простых молекул начали формироваться более сложные структуры, такие как РНК, способные к саморепликации. Это привело к гипотезе «РНК-мира», выдвинутой Карлом Вёзе и Лесли Оргелом в 1960-х годах, которая предполагает, что первые молекулы жизни могли быть РНК, способными к самовоспроизведению без участия белков. РНК может служить как катализатор химических реакций, так и носителем информации, что даёт основание считать её первым шагом к сложной биологической жизни.
Самопроизвольное возникновение жизни и отсутствие внешней цели в этом процессе подтверждает идею о том, что эволюция жизни является случайным, направленным не на цель, а на подчинение естественным законам химии и физики.
2.2 Появление первых клеток и эволюция
Процесс возникновения жизни продолжался с образованием первых клеток – примитивных организменных структур, окружённых мембраной. Эти клетки могли обеспечивать обмен веществ и защищать химические реакции внутри себя от внешней среды. Таким образом, эволюция начала свой ход. Формирование клеток положило начало живым существам, способным к обмену веществ, воспроизведению и взаимодействию с окружающей средой.
В 1859 году Чарльз Дарвин в своём труде «О происхождении видов» предложил теорию естественного отбора. Дарвин утверждал, что те организмы, которые лучше адаптированы к окружающей среде, имеют больше шансов на выживание и передачу своих генов следующему поколению. Этот процесс происходит без участия какой-либо целеустремлённости или предопределённости, он представляет собой результат случайных изменений, ведущих к повышению приспособленности к определённой среде.
Эволюция является процессом изменений и адаптации, не имеющим конечной цели или заранее определённой точки. Это механизм, основанный на случайных мутациях, которые приводят к изменениям в популяциях организмов, а смерть служит процессом удаления менее приспособленных существ. В этом контексте смерть является не окончанием жизни, а её неизбежной частью, необходимой для того, чтобы более приспособленные организмы могли продолжить своё существование. Смерть, таким образом, играет ключевую роль в поддержании баланса и прогресса видов, обеспечивая «очистку» от менее приспособленных генов.
2.3 Открытие структуры ДНК и гены как единицы наследственности
Открытие структуры ДНК в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, основанное на рентгеноструктурных данных, положило начало новому этапу в биологии. ДНК была расшифрована как молекула, которая кодирует генетическую информацию, передаваемую от поколения к поколению. Гены стали основными единицами наследственности, содержащими инструкции для синтеза белков, которые играют ключевую роль в функционировании организма.
Генетика также показала, как происходит мутация, когда случайные изменения в генах приводят к изменениям в организме. Эти мутации могут быть полезными, нейтральными или вредными, и в зависимости от того, как они влияют на выживаемость организма, они могут быть переданы в следующем поколении. Процесс экспрессии генов и их регуляция через эпигенетические механизмы (например, метилирование ДНК) добавляют дополнительные слои к пониманию того, как организмы приспосабливаются к окружающей среде.
Значение мутаций и их влияния на организм раскрывается через концепцию «негативного отбора», который уничтожает организмы с вредными мутациями, и «положительного отбора», который усиливает существование тех, кто лучше приспособлен. Включение эпигенетики в современное понимание эволюции позволяет более полно осознавать, как внешняя среда может влиять на генетические изменения и адаптацию видов.
2.4 Теория многоуровневого отбора и современное понимание эволюции
Теория многоуровневого отбора, предложенная учеными, такими как Уильям Гамильтон и Ричард Докинз, значительно расширяет наше понимание эволюции. Докинз, в своей знаменитой книге «Эгоистичный ген» (1976), выдвинул идею, что основные единицы эволюции – это не организмы, а гены, стремящиеся к саморепликации и распространению. С его точки зрения, организм становится лишь носителем генов, а эволюция, по сути, направлена не на выживание индивидов, а на сохранение и распространение генетической информации, передаваемой через поколения.
Согласно этой теории, эволюция не рассматривает организм как самостоятельную цель, а скорее, как средство для передачи генов в следующие поколения. Это приводит к понятию «эгоистичного гена», где каждый ген действует как своего рода «инструмент», заботящийся о собственном сохранении в популяции. Эволюция, таким образом, действует на уровне генов, а не отдельных организмов.
Важным моментом в развитии этой теории является понятие многоуровневого отбора. Отбор может происходить не только на уровне отдельных организмов, но и на уровне генов, групп, а также видов. В этом контексте, можно рассматривать эволюцию как процесс, в котором выбираются не только самые приспособленные особи, но и те генетические комбинации, которые повышают шансы на выживание популяций или групп.
Одним из примеров, который иллюстрирует многоуровневый отбор, является феномен появления организмов с одинаковыми чертами, например, эффект зеленой бороды. Представьте себе, что среди популяции животных появляется группа особей, которые случайным образом развивают уникальную особенность – зелёную бороду. это концепция, предложенная Ричардом Докинзом для иллюстрации идеи, как невыгодные на индивидуальном уровне черты могут быть сохранены и распространены через групповой отбор. В данном случае, особи с «зелёной бородой» (символическая черта, которая выделяет их среди других) могут не иметь явных преимуществ для выживания, но если такие особи образуют группу, то их схожие признаки способствуют кооперации и поддержке внутри группы, увеличивая шансы на выживание её членов. Таким образом, эта черта может быть выгодной на уровне группы, даже если она не приносит прямой выгоды индивидам. Зеленая борода может быть выбрана в рамках группового отбора, где в группе возникает взаимное сотрудничество или даже «сигналы» для взаимодействия с другими особями, что способствует выживанию целого сообщества. Таким образом, эволюция на уровне группы может привести к распространению этой черты, если она способствует кооперации и социальным взаимодействиям, что увеличивает шансы на выживание всей группы.
Докинз в своей теории также учитывает важность альтруизма в эволюции. Он утверждает, что индивиды, которые действуют в интересах группы, могут способствовать сохранению своих генов, даже если их поведение не приносит им прямой выгоды. Индивид способствует выживанию других особей, например, родственников или членов своей группы, за счет своих собственных рисков. В таком контексте, если особь с зелёной бородой помогает другим членам своей группы выжить, то её действия могут улучшить общий успех всей группы, и эти черты будут поддерживаться и усиливаться на уровне группы.
Рассмотрение эволюции как процесса, который происходит на нескольких уровнях, позволяет включить не только организмы, но и более широкие эволюционные единицы, такие как популяции, экосистемы и даже виды. Например, в рамках многоклеточных организмов или сообществ организмов с одинаковыми чертами (например, поведение или физические особенности) существует вероятность того, что эти черты будут поддерживаться за счет альтруистического поведения, способствующего общему успеху группы. Однако такое поведение важно не только для выживания конкретных особей, но и для распространения их генов на уровне всей популяции.
Одним из ярких примеров такого явления может служить симбиоз – тесное взаимовыгодное существование разных видов. Когда два или более видов кооперируются друг с другом, их шансы на выживание возрастают, и их черты могут быть поддержаны и усилены через эволюционные механизмы. Таким образом, черты, такие как зелёная борода, в долгосрочной перспективе могут распространяться не только на уровне отдельных организмов, но и в рамках более сложных биологических систем, что способствует общему выживанию группы.
Сегодня считается, что отбор происходит на нескольких уровнях:
Генетический уровень: Отбор происходит на уровне отдельных генов. Гены, которые способствуют успешному выживанию и размножению своих носителей, закрепляются в популяции, передаваясь следующим поколениям. Такой отбор фокусируется на том, как конкретные генетические вариации могут увеличивать свою частоту в популяции благодаря их влиянию на организм или на своих копий в других организмах.
Индивидуальный уровень: Отбор действует на уровне организмов. Особям, обладающим признаками, повышающими их шансы на выживание и успешное размножение, удаётся передать свои гены следующему поколению. Это приводит к распространению выгодных адаптаций в популяции и закреплению признаков, которые повышают индивидуальную приспособленность.
Родственный отбор (кин-отбор): Отбор происходит через помощь близким родственникам, которые несут схожие гены. Альтруистичное поведение по отношению к родне может повышать шансы на распространение общих генов, даже если оно снижает индивидуальные шансы на выживание. Такой отбор объясняет возникновение кооперативного поведения в семейных группах и колониях.
Групповой уровень: Отбор происходит на уровне групп организмов. Группы, в которых члены кооперируют и поддерживают друг друга, могут иметь преимущество перед группами, где преобладает эгоистичное поведение. Конкуренция между такими группами может приводить к отбору кооперативных стратегий, усиливающих успех группы в целом.
Уровень экосистем или симбиотических сообществ: Отбор может происходить на уровне целых экосистем или сообществ, состоящих из взаимосвязанных видов. В таких системах устойчивые взаимодействия, такие как симбиоз, кооперация и взаимная поддержка, могут способствовать успешному существованию всех участников сообщества. Если экосистема или симбиотическое сообщество успешно справляется с изменениями окружающей среды и сохраняет свою стабильность, это может способствовать выживанию и распространению всех входящих в него видов. Хотя такой уровень отбора является спорным, примеры совместной эволюции показывают, что сложные сообщества могут формироваться благодаря кооперативным и взаимовыгодным отношениям между разными организмами.
Современные исследования поддерживают идеи многоуровневого отбора, показывая, как кооперация на уровне групп и сообществ может способствовать эволюционному успеху.
2.5 Роль случайности и направленности в эволюции
Важно отметить, что эволюция, как процесс, в значительной степени зависит от случайных мутаций, которые могут либо помочь, либо повредить организму. Однако наличие направленности в эволюции также не исключается. С каждым поколением виды становятся более приспособленными к своей среде, но это происходит не через заранее определённые цели или проекты, а как результат взаимодействий случайных изменений с действующими экологическими и социальными факторами.
Эволюция не имеет заранее заданной цели или конечной точки. Важным моментом является то, что она не направлена на создание совершенных существ, а просто на приспособление к конкретным условиям, в которых организм существует. В этом смысле эволюция представляет собой не столько развитие, сколько процесс бесконечных адаптаций и изменений.
Вывод
Таким образом, эволюция не имеет заранее определённой цели или смысла. Жизнь и смерть являются частью непрерывного цикла изменений и адаптаций, которые обеспечивают выживание тех видов, которые лучше приспособлены к своим условиям. Смерть, как часть этого процесса, не предполагает жизни после неё, так как она необходима для того, чтобы более приспособленные организмы могли продолжить своё существование. Эволюция – это последовательность случайных процессов, которые в конечном итоге привели к появлению современных видов, включая человека. Мы такие, какие есть, исключительно потому, что все другие варианты не выжили, и мы их не видим. Вся жизнь на Земле, от микроорганизмов до человека, – результат детерминированных процессов, которые, через миллиарды лет, сформировали живые существа, наделённые возможностью к размножению и адаптации.