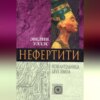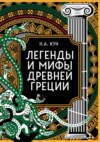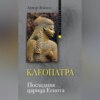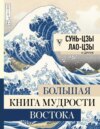Читать книгу: «Герой «Махабхараты» Арджуна. Образцовый витязь индийского эпоса», страница 2
2. Родители героев
«Вообще во всей его фигуре было что-то джентльменское, как бы говорившее вам, что он всю жизнь честно думал и хорошо ел»
Алексей Писемский«Тысяча душ»
Существует известный набор универсальных для эпической традиции признаков, характеризующих великого героя или предвещающих его появление. Можно заметить, что Арджуне и, в определённой мере, его братьям сказание отводит настолько значительную роль, что подобные «возвеличивающие» признаки распространяются и на их родителей. В интригующем противоречии с пророчеством Вьясы сказание превозносит Дхритараштру и Панду: «Так родились от жён Вичитравирьи и от Двайпаяны» (Островитянин, прозвище Вьясы – А. И.) «продолжатели рода Куру, подобные божественным отпрыскам» (Мбх I, 101, 30) (курсив наш-А. И.). Обычно сказания относятся подобным образом к героям, которым уготована великая доля:
«Встал пред народом Эней: божественным светом сияли
Плечи его и лицо…»
(Вергилий «Энеида» I, 588–589. М. 1979)(курсив наш – А. И.).
Напомним, что богами было предопределено герою Энею – сыну Афродиты – с остатками поверженных троянцев переселиться в Италию и основать царство-предшественник великого Рима.
Греческий эпос также возводит величественную внешность благородных героев непосредственно к их небесной родословной; вот что говорит царь Спарты Менелай Телемаку (сыну «богоравного» Одиссея) и Пизистрату (сыну великого Нестора):
«В вас не увяла, я вижу, порода родителей ваших;
Оба, конечно, вы дети царей, порождённых Зевесом,
Скиптродержавных, подобные вам не от низких родятся»
(«Одиссея», IV, 62–64).
Это распространённый приём сказаний: правитель, впервые увидев странствующих принцев, восхищается их божественной внешностью. По стандартным лекалам скроена сцена встречи царя Сумати с царевичами Рамой и Лакшманой; при их виде царь осведомляется:
«…Кто эти юноши,
Похожие на богов величием,
На царственных слонов походкой,
На могучих тигров силой?
Их глаза – лепестки лотосов.
Наделённые красотой юности,
С мечом, луком и стрелами,
Они подобны двум Ашвинам.
Они – словно бессмертные боги,
Случайно сошедшие на землю»
(«Рамаяна» I, 48, 2–4.М. 2006).
Можно полагать, что и Менелай, и Сумати имеют в виду не конкретное родословие юных героев, а общий принцип небесной родословной царей: если Зевс действительно является небесным отцом Одиссея, то Нестор – внук Посейдона, а в индийских царевичах частично воплотился Вишну. Ссылка на небесное происхождение может выглядеть фигурой речи, как видим на примере Бхараты, дальнего предка Пандавов и Кауравов: «…С телом, как у льва, с руками… и с высоким челом прелестный тот мальчик, отличавшийся большой силой, стал быстро расти, подобно отпрыску богов» (Мбх I, 68, 4) (курсив наш – А. И.). Эта традиция настолько сильна, что в стадиально более поздних и значительно «демифологизированных» памятниках средневековой Европы и Азии героический эпос не может удержаться от возведения величественной внешности если не к божественной, то к знатной родословной (понятно, что исходно эти две тенденции были генетически связаны: там, где сохранилась индоевропейская традиция сакральности власти, происходила и мифологизация происхождения правителя). Вот как аттестует датский дозорный Беовульфа:
«И я ни в жизни
не видел витязя
сильней и выше,
чем ваш соратник —
не простолюдин
в нарядной сбруе. —
кровь благородная
видна по выправке!»
(«Беовульф» 248–250. М. 1975).
Сходным образом наблюдатель отзывается о живущем инкогнито в изгнании иранском царевиче:
«Вглядевшись в Гоштаспа, воскликнул Мирин:
«Второй не рождался такой исполин!
Он, верно, из рода владык – не сыскать
Такую осанку и силу, и стать»»
(«Лохрасп», б. 677–680. «Шахнаме», т. IV, М. 1969).
В результате связь богатырской внешности с благородным происхождением для многих сказаний становится эпическим клише: «Рослый же ты мальчик, сильный, и сложен, как никто другой; не видывал я княжеского сына, который мог бы равняться с тобой…», – восхищается юным исландским героем старший родич («Сага о Финнбоги Сильном», VI. М. 2002). Разумеется, исходно образцом прекрасной, величественной и богатырской внешности персонажей героического эпоса служил материал мифа, как можно видеть из описания вавилонского бога-воителя Мардука:
«Грудью богини был он вскормлен…
Его лик был прекрасен, сверкали взгляды!
Изначально властна, царственна поступь!
…Он ростом велик, среди всех превосходен…
Средь богов высочайший, прекраснейший станом,
Мышцами мощен, ростом всех выше»
(«Энума элиш» 85, 87–88, 93, 99-100.«Когда Ану сотворил небо». Литература древней Месопотамии. М. 2000).
Итак, сходство или льстивое сравнение с божеством или царственным предком маркирует героя великой судьбы. Хотя великая доля принцев Дхритараштры и Панду, как нам предстоит убедиться, в основном связана не с их собственными подвигами, но с грядущими деяниями их сыновей, знаки расположения неба появляются сразу по их рождении и даже распространяются на все сферы жизни царства Куру: «Земля стала высоко плодородной, а урожаи – обильными. Параджанья проливал дождь соответственно временам года… Рабочий скот был весел… Города были полны купцов и ремесленников. (Все) были храбры и сведущи, добры и счастливы…Во всех частях страны наступил золотой век…Полные любви друг к другу люди преуспевали тогда…И покатилось по стране колесо святого закона…» (Мбх I, 102,1-12).
Когда настало время женить царевичей, роль свата вновь была доверена опытному Бхишме. Для Дхритараштры он высватал царевну Гандхари, получившую божественный дар родить сто сыновей. Панду достались две жены. Старшая, царевна Кунти, сама выбрала богатыря Панду на сваямваре (форма кшатрийского брака, при которой невеста выбирает жениха из многих претендентов). Младшая, царевна Мадри, «по красоте не имеющая равных на земле», была куплена «за огромное богатство». Сказние впервые намекает на великуш судьбу и предназначенность Пандавов. Оказывается, в этом случае в земные события загодя вмешались потусторонние силы: «… Те две богини, которые были Сиддхи» (супруга Дхармы – А. И.) «и Дхрити» (супруга Шивы – А. И.), «родились (на земле) матерями пятерых (Пандавов) – как Кунти и Мадри» (Мбх 1,61,98).
Вернёмся к земной подоплёке происходящего. У Кунти, как и у Сатьявати, была тайная и постыдная предыстория, которая окажется фатальной для династии. Дочь правителя ядавов Шуры, Притха была по обету отдана для удочерения царю Кунтибходже и в его дворце однажды в награду за благочестие и услужливость получила от аскета Дурвасаса в дар мантру, то есть заклинание. Этой мантрой барышня могла вызвать любого бога для обретения потомства, что она и проделала, вызвав бога солнца Сурью. В результате на свет появился Карна, будущий великий воитель и вечный соперник Арджуны. К Карне мы ещё не раз обратимся. Пока же достаточно сообщить, что внебрачный младенец в соответствии с расхожим образом фольклорного подкидыша был пущен в корзине по реке, спасён и усыновлён сутой (колесничим), то есть не удостоился посвящения в кшатрии, не говоря уже о положении царевича. Подобное понижение социального статуса, а также факт спасения и воспитания подкидыша предвещают ему великую долю [см. например, усыновление бедняками будущего героя Финнбоги («Сага о Финнбоги Сильном». М. 2002); предельный вариант понижения статуса – полное лишение человеческого сообщества и вскармливание подкидыша животным, как в случае Рема и Ромула].
Кунти, как в своё время Сатьявати, чудесным образом вновь обрела девственность. Сказание отмечает, что подвижник даровал Притхе мантру «в силу своего предвидения случаев несчастий» (Мбх I, 104) – ещё одно до поры неясное пророчество. Но скоро аудитория узнает, какое несчастье предвидел мудрец. Царь Панду с двумя юными жёнами отправился на жительство в лес. Там этот заядлый охотник случайно подстрелил аскета, который перед смертью успел проклясть незадачливого стрелка: отныне соитие с женой грозит царю смертью. Проклятие приводит Панду в отчаяние: «для бездетного нет дверей на небо», так как, не обретя потомства, он не исполнит долга перед предками (после его смерти некому будет проводить заупокойные обряды).
С этого момента начинается полоса чрезвычайно обильных даже по меркам древнего эпоса предсказаний и предзнаменований. Для начала лесные отшельники в утешение Панду разражаются соблазнительным, но туманным пророчеством: «…Есть и для тебя потомство, счастливое, безупречное, подобное богам; мы это видим, о царь, своим дивным оком» (Мбх I, 111,18) (курсив наш – А. И.). В данном пророчестве сравнение будущих отпрысков с богами – отнюдь не фигура речи. Оказывается, царский род можно продолжить с помощью магии, ведь именно это несчастье предсказал Дурвасас. Кунти открывает мужу свою тайну: она обладает мантрой для обретения потомства от любого бога по своему выбору (но умалчивает о первом опыте и внебрачном сыне).
3. Пророчества и знамения
«Вам, о рождённые встарь, в блаженное время былое, Вам, герои, привет, матерей золотое потомство!»
Катулл «Книга стихотворений» 64
Теперь можно перейти к биографии нашего героя; прежде всего рассмотрим, как закладывались качества идеального витязя сказания. Панду, размышляя о выборе божества, от которого может «родиться превосходный сын, наилучший в мире», делает вполне обоснованный выбор: «Нам известно, что Индра – главный царь богов. Он доблестен и одарён неизмеримою силой, могуществом и величием…И сын тот, которого он даст мне, будет превосходнейшим из всех» (Мбх I, 114, 16–18). (Отметим мимоходом некоторую странность: почему «программирование» сына действительно выдающихся качеств происходит только для третьей беременности царицы? Ведь третьему по старшинству принцу, несмотря на свойства великого героя, полученные от царя богов, не суждено унаследовать царство. Остаётся заключить, что сказание готовит материал для витязя par excellence, которому суждено быть вечным дружинником на службе царственного старшего брата. Кроме того, это следование универсальному фольклорному мотиву о младшем – часто именно третьем – брате, как самом благородном и доблестном, а Арджуна как раз третий законный и последний из родных сыновей Кунти).
Панду предался суровому покаянию, «желая снискать благосклонность этого бога». В результате «Васава» (Индра – А. И.) «обратился к нему со словами: «Я дам тебе сына, славного в трёх мирах, и он будет способствовать благополучию богов, брахманов и друзей. Я дам тебе наилучшего сына, сокрушителя всех врагов»» (Мбх I, 114, 21–23). Как видим, это уже не просто пожелания отца будущего героя, но обетование главы индуистского пантеона. После слов самого Индры у аудитории не должно оставаться сомнений в замечательных качествах имеющего появиться на свет (ещё не зачатого!) Арджуны. Более того, Индра намекает и на выдающиеся подвиги героя, которые неясным пока образом обеспечат благополучие небожителей.
Указанные обстоятельства, предвещающие появление великого героя, не случайны. Сходным образом в другом древнеиндийском сказании праведный царь Дашаратха собирается обрести сыновей, для чего великий риши Ришьяшринга устраивает специальный ритуал жертвоприношения коня – ашвамедху. Руководящий ритуалом мудрец отдает распоряжения:
«Пусть приготовят все для жертвы,
Пусть будет отпущен на волю конь,
Пусть на северном берегу Сараю
Обустроят место для жертвы!», —
а затем и пророчествует:
«Ты, чей разум просветлен
Мыслью о рождении сына,
Обретешь четырех сыновей
Несравненного величия»
(«Рамаяна», I, 12, 12–13).
В процедуре появления на свет сыновей-героев царя и, в особенности, величайшего героя Рамы, как и в случае Арджуны, специально отмечено участие неба:
«Призвав богов песнопениями,
Восхвалив их прекрасными гимнами,
Жрецы предложили каждому богу
Положенную в жертве долю»
(там же, 14, 9).
Аналогом соития Кунти с Индрой является ритуальное «соитие» царицы Каусальи с жертвенным конем:
«Подле убитого коня
Твердая духом Каусалья,
Стремясь соблюсти свой долг,
Провела, бодрствуя, одну ночь»
(там же, 14, 34).
Вернемся к истории куру. Вдохновлённый обетованием божества, теперь уже Панду, обращаясь к супруге, пророчествует о достоинствах великого героя: «О прекраснобёдрая, роди благородного сына, искушённого в политике, одарённого величием, равным солнцу, неприступного (в бою), деятельного и весьма прекрасного видом, и да будет он вместилищем величия кшатриев» (Мбх I, 114, 25–26).
Позже аудитория узнаёт о новом пророчестве, на этот раз с обстоятельной каталогизацией грядущих великих свершений третьего сына Панду: «…Как только ребёнок родился, невидимый голос, своим глубоким звуком оглашая небо, сказал: «Этот (сын)…о Кунти, одарённый могуществом, равным Шиве и непобедимый как Шакра»» (Индра – А. И.), ««распространит твою славу…Подчинив своей власти мадров, Кауравов вместе с кекаями, а также народы Чеди, Каши и Каруша, он возвеличит славу рода Куру. Благодаря могуществу его рук Агни придёт в полное удовлетворение от жира всех существ, (сожженных в лесу) Кхандаве. Покорив вождей и царей, сей могучий герой вместе с братьями совершит три жертвоприношения коня. Подобный Джамадагнье»» (великий знаток оружия и истребитель кшатриев брахман-воин Парашурама, шестая аватара Вишну – А. И.), ««…по доблести равный Вишну, и наилучший из храбрых, он станет непобедимым. Этот бык среди мужей добудет также всё божественное оружие и вернёт потерянное счастье»» (Мбх I, 114, 28–35). Каждое из этих утверждений является отсылкой к определённым событиям, а каждое сравнение несёт особый смысл. Забегая на десятилетия вперёд, можно дать следующее толкование пророчества. Шива и Индра дадут Арджуне небесное оружие (см. главу 19), и Шива будет споборствовать герою в важнейшех схватках (см. главу 44). Сравнение с Рамой Джамадагньей также неслучайно: Арджуне предоставлена богами роль быть истребителем мириад кшатриев. Сравнение с Вишну намекает, что будущий герой явится воплощением древнего божественного мудреца Нары, который, в свою очередь, является частичным воплощением Вишну. При сожжении леса Кхандавы вместе с его обитателями впервые будет явлена потусторонняя природа героя и боевое братство с Кришной (см. главу 15). А под возвращением «потерянного счастья» подразумевается обретение царства, имеющего быть утраченным в результате козней Кауравов (см. главу 18).
И при наличии пока тёмных для аудитории мест (непременная принадлежность истинного пророчества) здесь можно усмотреть подробный перечень важнейших событий и свершений всей жизни витязя. Сама обстоятельность предсказания напоминает пророчество, сделанное юному кельтскому герою Кухулину потусторонней дамой Скатах [ «Тогда предсказала Скатах всё, что случится с ним в жизни, спев песнь провидицы» («Сватовство к Эмер». «Саги об уладах» М. 2004)], а также пророчество, сделанное юному германскому герою Сигурду его дядей. Приведём краткую выдержку последнего:
«Грипир сказал:
«Будешь велик,
как никто под солнцем,
станешь превыше
конунгов прочих,
щедр на золото,
скуп на бегство,
обличьем прекрасен
и мудр в речах»»
(«Пророчество Грипира», 7.«Старшая Эдда» Л. 1963).
Обращает на себя внимание сходство перечня достоинств Арджуны и Сигурда от самых общих («величием, равным солнцу» – «велик, как никто под солнцем») до специфичных для сословия («вместилище величия кшатриев» – «превыше конунгов прочих») и, наконец, вполне конкретных: «неприступен в бою» – «скуп на бегство», «весьма прекрасен видом» – «обличьем прекрасен», «искушён в политике – «мудр в речах». Позволительно предположить, что мы имеем дело с расхожим набором качеств великого героя. Кроме того, и в случае Кухулина, и в случае Сигурда речь идёт не просто о доблестных и благородных витязях (а эти категории, как показано во Введении, совпадают не всегда), но о главных и, в некотором роде, образцовых героях ирландского и германского эпоса, соответственно. [Отметим мимоходом, что и великие герои не всегда удостаиваются пространных предсказаний. Вот как звучит основанное на небесных знамениях пророчество Мерлина, адресованное имеющему стать королём Британии Утерпендрагону, о его будущем сыне короле Артуре: «Луч, протянувшийся к галльскому побережью, возвещает, что у тебя будет наделённый величайшим могуществом сын, господству коего подчинятся все королевства, которые он возьмет под свою руку» (Гальфрид Монмутский «История бриттов», 133. М. 1984]. Дело в том, что в хронике Гальфрида великий Артур – только один в обширном каталоге мифических правителей Британии, тогда как перечисленные выше герои являются центральными персонажами соответствующих национальных сказаний или циклов песен или саг.
Учитывая сходство пророчеств, сделанных Арджуне, с пророчествами, полученными Кухулином и Сигурдом, можно предположить, что и Арджуне уготована роль первого в иерархии – то есть во всех отношениях лучшего – витязя сказания. Действительно, на его выдающуюся доблесть и воинское искусство указывает и рассмотрение пророчества по существу: Арджуне суждено покорить окрестные царства, в два приёма овладеть божественным оружием (во втором случае проведя ради этого пять лет на небесах, см. главу 19), в битве на Курукшетре вернуть утраченное царство Пандавам (именно в качестве их первого витязя), совершить победоносный поход-обход окрестных царств для царского жертвоприношения коня.
Но последующие знамения показали, что дело не (только) в земных подвигах героя: «И когда услышали эти слова, произнесённые громко, у отшельников….а также у божественных риши вместе с Индрой и небожителями явилась величайшая радость. И в небе раздался гулкий гром барабанов. Поднялся великий шум, сопровождаемый ливнем цветов. Сына Притхи почтили собравшиеся сонмы богов… гандхарвы и апсары и семь великих риши» (мудрецов – А. И.). «Там апсары в дивных венках и одеждах, украшенные всеми убранствами, воспевали Бибхатсу» (Арджуну – А. И.) «и плясали. И стояли там в воздухе Дхатри и Арьяман, Митра и Варуна, Анша и Бхага, Индра, Вивасван и Пушан, Тваштри и Савитар, а также Парджанья и Вишну – все лучезарные Адитьи, вознося величие Пандавы…Там были и оба Ашвина и все восемь Васу, и могучие Маруты…» (Мбх I, 114, 35–62). Итак, появление будущего героя приветствует индуистский пантеон едва не в полном составе, позволяя предположить некую космическую подоплёку его свершений; данное предположение косвенно подтверждается пророчеством Индры, что его сын «будет способствовать благополучию богов». [Ср. с небесными знамениями, сопровождающими рождение сыновей Дашаратхи:
«При их рождении на небе
Пели гандхарвы, плясали апсары,
Гремели барабаны богов,
На землю сыпался дождь цветов»
(«Рамаяна» I, 18, 77)].
Но, может быть, наши выводы слишком поспешны, и индийскому эпосу вообще свойственна известная экзальтированность предуведомлений аудитории о великой доле благородных витязей? Для адекватной оценки перечисленных пророчеств и знамений рассмотрим обстоятельства появления на свет двух старших братьев Арджуны – Юдхиштхиры и Бхимасены. Их родителями является та же царственная чета, да и зачатие произошло всё тем же чудесным способом. Более того, Юдхиштхире суждено возглавить великую державу (подчинив окрестные царства), а Бхимасене – стать непревзойдённым по мощи фольклорным силачём (будет сражаться вырванными с корнем деревьями, голыми руками расправляться с чудовищными ракшасами, в опасности нести на плечах всё семейство, включая богатырей-братьев и т. п.). По пожеланию Панду «Кунти вызвала вечного Дхарму» (бог закона и справедливости – А. И.) «ради зачатия». Ни о необходимых аскетических подвигах родителей, ни о речах призванного божества сказание в этом случае не сообщает. Вот что известно о доле первенца Панду: «…Кунти родила в срок сына, одарённого великой славой. И как только родился этот сын, невидимый голос сказал: «Этот перворождённый сын Панду, несомненно, будет лучшим из блюстителей закона, по имени Юдхиштхира. Он будет известным царём, прославленным в трёх мирах, обладающим величием, могуществом и добродетелями»» (Мбх I, 114,1–7). Можно видеть, что при обетованной выдающейся земной карьере старшего Пандавы, ни о какой «космической» роли для него речи не идёт. Появление второго сына Панду обставлено ещё скромнее. Панду призывает супругу: «…Выбери же сына, который превосходил бы (всех) своею силою!». «И Кунти… вызвала бога Ваю» (бог Ветра – А. И.). «И от него родился могучерукий Бхима, обладающий страшной силой. И опять… возвестил голос: «Этот новорождённый (будет) первейшим среди могучих»» (Мбх I, 114). Вот и всё; ни для Юдхиштхиры, ни для Бхимасены никакого перечня деяний сказание не припасло, не говоря уж о небесных знамениях. Правда, новорождённый Бхима, упав с колен матери, вдребезги разбил скалу, но к небесным знамениям это событие не относится. Здесь мы имеем дело с обычным для фольклорного героя, образ которого, очевидно, заимствован из архаических песней, свойством, когда сила ещё отождествлялась с тяжестью (вспомним каменно-тяжёлого младенца Нюргуна Боотура якутского олонхо; Святогора, которого земля не носит; новорождённого Джарасандху «Махабхараты», которого едва может нести ракшаси; Улликумми, каменного великана хурритов).
Необходимо хотя бы кратко упомянуть о появлении двух младших Пандавов. Кунти по просьбе мужа поделилась волшебной мантрой с младшей женой Панду красавицей Мадри, та вызвала сразу двух близнечных богов Ашвинов и родила «сыновей-близнецов: Накулу и Сахадеву, красотою своей несравненных на земле. И об этих близнецах также сказал невидимый голос: «Одарённые красотою, доблестью и добродетелями, они будут сиять, превосходя других людей своим блеском и совершенством красоты и силы»» (Мбх I, 115, 17–18). Предоставление Кунти младшей жене Панду своей мантры находит параллель в истории жён царя Солнечной династии Дашаратхи, которые должны обрести потомство в результате ритуала жертвоприношения коня:
«Хотар, адхварью и удгатар1
Разрешили затем присоединиться
К возлежащей подле коня царице
Второй и третьей царским женам»
(«Рамаяна» I, 14, 35).
В результате, как и семействе Панду, на свет появятся братья великого героя, во всём уступающие ему. Далее, для сыновей Дашаратхи, как и для сыновей Панду, постулируется двойная генеалогия: в первых воплотится Вишну (но в разных долях, так что первым витязем сказания суждено стать сыну Каусальи Раме).
Подведём предварительный итог. Набор потусторонних явлений, обрамляющих появление двух старших и двух младших Пандавов, не идёт ни в какое сравнение с вниманием, которое небо, а вслед за ним и сказание, уделило среднему сыну Панду (младшему сыну Кунти). Можно предположить, что перед Арджуной, помимо предречённых замечательных земных свершений (возможно, совместно с братьями, но в качестве их военного предводителя), стоит некая космическая по масштабу задача в соответствии с пока неясным для аудитории небесным замыслом. Этот замысел так важен, что сказание неоднократно проговаривается, не в силах удержаться от намёков, начиная с Введения: «Обе их» (Пандавов – А. И.) «матери» (Кунти и Мадри – А. И.) «во (исполнение) тайных предписаний закона (получили) зачатие от богов» (Мбх I, 1) (курсив наш – А. И.). Далее, при кратком изложении основных событий, сказание оповещает аудиторию, что в грядущей распре глава фратрии Кауравов Дурьйодхана «различными средствами, тайными и открытыми, не смог уничтожить их» (Пандавов – А. И.), «хранимых судьбою для грядущего» (Мбх I, 55, 75) (курсив наш – А. И.).
Вскоре после обретения потомства Панду не устоял против чар прекрасной Мадри и умер в момент соития во исполнение проклятия отшельника. Мадри взошла на погребальный костёр мужа, а Кунти с пятью сиротами вернулась в столицу Кауравов. Отныне Арджуна вместе с братьями попадает в обширную категорию фольклорных героев-безотцовщины с особой ролью матери (вспомим Добрыню русских былин, Лемминкяйнена финского эпоса) и взрослением при дворе/в семье владетельного дяди (Кухулин ирландских саг, Беовульф англосаксонской поэмы, Вивьен и Бертран французских жест о Гильоме, Мордред бриттской и Тристан бриттской и бретонской традиций). В результате Кунти суждено стать водительницей юных героев, и именно в этом качестве вдовая царица по пророчеству будет прославлена подвигами Арджуны (vide supra).