На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг.
Текст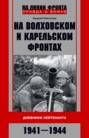


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 39,90 ₽
- Объем: 630 стр. 1 иллюстрация
- Жанр: биографии и мемуары, документальная литература
Период интенсивной учебы
15 июля. Полевые учения подвели итог первичному этапу обучения – периоду адаптации призывников к армейской среде, усвоению ими элементарных знаний в объеме программы школы младших командиров. Впереди стажировка и зачеты.
Стажировку начали с Олега Радченко. В течение суток исполняет он функции помощника командира взвода. Следующая очередь моя. От подъема до отбоя. Максим Пеконкин должен уступить мне свое место в строю. Я волнуюсь, плохо сплю ночь – не проспать бы «подъем».
16 июля. После развода я веду взвод на занятия. Синенко и Пеконкин идут по тротуару и к нам как бы даже никакого отношения не имеют. Вначале робко, потом смелее пробую я свой «командирский голос». Синенко хвалит – я доволен.
Вспомнилось мне, как в детстве по выходным дням ходил я с отцом на плац Высшей пограничной школы в Протопоповском переулке, где проводились показные состязания по конной подготовке, манежная езда, конкур, рубка лозы. Вспомнилось мне это еще и потому, что видел во сне отца. Где-то он теперь? В сорок первом он эвакуировался с наркоматом. Затем его мобилизовали, а ему под пятьдесят. Мать моя прислала мне его адрес: Полевая почта 30750Т.
Стажировку проводим мы в великолепном сосновом бору на западной окраине Устюга. Почва здесь песчаная, сухая. Воздух, прогретый за день, источает ароматы смолы и хвои. Под руководством капитана Лаврова осваиваем глазомерную съемку на топографическом планшете. Сложная практика военно-топографического черчения дается мне свободно и легко. Да и не мне одному. Синенко и сержанты поглядывают на нас с нескрываемым восхищением – им-то картографическая наука дается с особенным трудом. Тяжело было младшим командирам кадровой службы, с неполным средним образованием, усваивать с ходу основы планиметрии и тригонометрии. Слова «синус», «косинус», «логарифм», «квадратный корень» воспринимались ими как некие магические заклинания, смысл которых они, при всем их желании, постичь были не в состоянии. С нашим взводным, лейтенантом Синенко, у нас установились ровные, можно сказать, дружеские отношения, без какого-либо намека на панибратство или фамильярность. Мы знаем: наши командиры уважают и ценят нас. Скоро производство, и на наших петлицах появятся рубиновые кубики – знаки лейтенантского отличия.
Синенко сообщил нам, что 75 % выпуска в Пуховическом училище едет в распоряжение Москвы, 15 % – в распоряжение Архангельска и 8 % – на фронт.
– Хорошо бы попасть в распоряжение Москвы, – мечтаю я.
– Из Москвы-то, поди, могут послать на любой фронт, – перебивает меня Парамонов. – На Юге теперь вон какая драчка идет.
– Осколок ал и пулю схлопотать всюду можно, – назидательно вставляет Пеконкин. – И в обозе люди гибнут, и из драки чистыми выходят.
– Через Москву-то бы хорошо! – кричит Костя Бочаров. – Домой забежать можно!
Именно это время нашего пребывания в училище, в смысле интенсивности и насыщенности наших занятий, в смысле практических результатов, наконец, в смысле общего настроения, было наиболее продуктивным. Завершился процесс адаптации, все мы втянулись в ритм казарменной жизни, смирились с неизбежностью своего положения, и товарищеский дух среди курсантов креп день ото дня. Быть может, впервые почувствовал я здесь, что такое «крепкий» и «здоровый» мужской коллектив. Убедился я и в том, что его крепости и оздоровлению немало способствовало наше общее нелегкое положение – положение военного времени. Мы вынуждены были держаться принципа товарищеской солидарности, иначе мы просто бы не выдержали; не смогли бы в кратчайшие сроки освоить курс и практику программы обучения и стать полноценными командирами. Все, что мешало нам на этом поприще, извергалось вон. Наш комиссар, старик Матевосян, был опытным военным психологом. Сквозь пальцы смотрел он на самоволки, но никогда не прощал нарушений, подрывавших моральные основы отношений в курсантской среде. Был случай, когда однажды на утренней поверке он увидел курсанта, стоявшего в строю без сапог – босиком.
– Это почему такой, а? Куда сапоги дел? – услышали мы громкий, гортанно-хриплый, но вполне спокойный голос комиссара.
– Украли, товарищ полковой комиссар. Ночью украли.
– Кто ночью украл, а?
– Не знаю кто.
– Врешь! – закричал Матевосян, и на смуглом лице его надулись жилы. – Врешь! Сам спрятал. В сене спрятал. Да?! – И комиссар энергично выкинул руку с указательным пальцем. – Там спрятал, говори!
Курсант молчал, переминаясь босыми ногами, – он чуть не плакал.
– Дневальный! – взревел комиссар. – На конюшню иди. Смотри в сене, там сапоги. Сюда неси, здесь разбираться будем!
Дежурный по дивизиону и дневальный отправились на конюшню и довольно долго не возвращались. Строй стоял, не шевелясь, затаив дыхание. Комиссар прохаживался молча, заложив руки за спину. Наконец появился дежурный, а за ним и дневальный с сапогами в руках.
– Что?! – торжествующе выкрикнул комиссар. – Правильно я говорил: спрятал! Думал, не заметят, новые дадут, а эти на самогон сменяю! Так думал? Да? Говори!
Курсант клялся и божился, что не он спрятал сапоги. Что их у него украли. Что он не виноват и самогона не пьет. Строй распустили. Сапоги вернули курсанту.
Вора обнаружили довольно быстро. Старый комиссар производил сыск лишь ему одному известными средствами. Вора отчислили с первой же партией в маршевую роту.
17 июля. Тимощенко вызвал меня в ротную каптерку и, узнав, что я уже отстажировался, приказал мне в течение двух дней изготовить наглядные пособия по тактике и топографии. Старшина Бычков отвел мне место для работы по соседству с комнатой командного состава и сам услужливо таскал для меня котелки с кухни, предоставляя полную свободу выхода в город. Командиры взводов и рот, даже сам капитан Краснобаев, не раз заходили взглянуть на мою работу. Иногда кто-нибудь из них, стоя за спиной, спросит вежливо: «Не мешаем?» До чего же все они тут совершенно иные, думаю я. Кажется, будто с тобой говорят совершенно не те люди. Неужели и мне предстоит так же вот меняться в зависимости от обстоятельств?
Невольно прислушиваясь к разговорам в командирской комнате, я случайно узнал о том, что готовятся серьезные полевые учения всего училища с маршем минимум на сто километров.
19 июля. Взвод дежурит на кухне. Работать предстоит круглые сутки без отдыха и сна, до изнеможения, до ломоты во всем теле. На каждого из нас приходится в среднем до полсотни ведер воды, которую здесь носят в огромной бадье по двое на длинном коромысле. От колодца до кухни около семидесяти метров. Надев поясной ремень обручем через плечо, мы носим воду, пилим и колем дрова, помогаем повару у плиты. К приходу личного состава в столовую, а едят в несколько смен, мы готовим к раздаче бачки с супом и кашей, огромные чайники с чаем. Выносим помои и убираем столы, моем пол в обеденном зале и подметаем территорию снаружи.
Кухонный наряд питается «от котла» и ест неограниченно, как выражаются, «от пуза». Теперь даже не верится: сколько же мы могли тогда съесть за один присест макарон со свининой, сдобренных пряной подливкой, и выпить при этом до полутора литров компота. Однако были такие, что поглощали вдвое, втрое больше, нежели я. Состязаться с ними значило заболеть расстройством желудка и надолго попасть в госпиталь. Хлеб, сэкономленный от дежурства на пищеблоке, оставался на следующий день или выменивался по обоюдному согласию – преимущественно на табак или махорку. После наряда на кухню полагаются сутки отдыха. Вечером разрешено посещение кино. На этот раз в городском парке идет «Таинственный остров» с Краснопольским в главной роли, и мы отправляемся вновь переживать похождения любимых героев Жюль Верна. Нам нравилось все романтическое и возвышенное. Очевидно, это благотворно влияло на душу.
21 июля. Редакционная коллегия восемнадцатой роты готовила к выпуску очередной номер стенной газеты. Передовица, как и подобало, была написана политруком роты Гераськиным и похожа на любую из передовиц. Зато прочие разделы блистали содержанием, красноречием и остроумием. В газете охотно сотрудничали Олег Радченко, Костя Бочаров, поэт Виктор Федотов, Вячеслав Михайлович Симорин – помреж с «Мосфильма», юрист Лемке, историк Гришин и другие. Я отвечал за художественное оформление, Бочаров ведал литературной частью, отделом сатиры и юмора – Мкартанянц. Не имея иной возможности интеллектуального и творческого самовыражения, наши курсанты изощрялись в сочинении статей по проблемам науки, культуры и искусства на довольно-таки высоком уровне. Поэты писали стихи. Отдел сатиры и юмора собирал толпы народа, и нашу стенную прессу приходили смотреть и читать из других соседних рот.
Окончив рисование, я растянулся в блаженной позе на койке в ожидании прихода подразделения с занятий. Костя с Олегом приколачивали газету в вестибюле, и я слышал, как они переругиваются. Потом и они, придя в комнату, залезли каждый на свою койку. Некоторое время лежали молча. Наконец Олег спросил:
– Что пишут из Москвы?
– Мать сообщает, что теперь там выставка Антона Николаевича Чиркова – нашего педагога в училище живописи. Молодой – сорока еще нет.
– А направления какого? – слышу я голос Кости Бочарова.
– Направления? Скорее новозападного. Любит Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса. И не любит твоего родственника – Саврасова.
– Значит, из «левых»! – заключает Костя. – Это хорошо!
Сам Бочаров считал себя ярым приверженцем импрессионизма и на правах родственника «великого передвижника» признавал за собою исключительное право хаять русское искусство прошлых веков. Рассуждая о «ретроградах» и «прогрессистах», Костя, лежа на своей койке, одновременно что-то жевал.
– Ты что там чавкаешь? – услышал я голос Олега.
– Хлеб ем с «кремом», – отозвался Костя, – от наряда остался.
Сегодня за завтраком вместо сливочного масла дали топленое, и все стали готовить «крем» – перетирать масло с сахаром. Достал и я сэкономленную краюху ситного, намазал «кремом» собственного приготовления и стал есть, вспоминая Москву, художественное училище и Антона Николаевича Чиркова. Мог ли я тогда предполагать, что жить ему оставалось совсем недолго. Он умер в том же году, осенью.
Блаженствовали на койках мы недолго. Вернувшуюся с занятий роту сразу же отправили на разгрузку баржи с продовольствием. Привезли рис, вермишель, муку, сахар, томаты, компот. Утро было солнечным и прохладным, а к вечеру задули сильные ветры – резкие и холодные. Удивительно быстро меняется погода в этом северном крае. То ясно – то вдруг небо как-то сразу покрывается рваными, неуютными облаками и синева его приобретает пронзительно-ледяной оттенок. На пристани от баржи до берега перекинуты шаткие дощатые сходни, прогибающиеся под ногами. С тяжелыми мешками на спине, до сорока килограммов весу, бегать по этим вибрирующим доскам тяжело и страшно. Зато в казарме ждала нас удвоенная порция ужина, а в качестве деликатеса – копченая вобла.
22 июля. На разводе стало известно о предстоящем ночном походе. Тема: стажировка командиров орудийных расчетов в тяжелых условиях ночного боя. Погода портилась.
Идет нудный, затяжной дождь. Курсанты шутят: «Начальство специально выбирает ноченьки потемнее да пострашнее». Приятного, естественно, в подобных учениях мало – это ясно и дураку. Однако была в них, безусловно, и своя неопровержимая логика, в которой, в общем-то, никто не сомневался, и суворовская поговорка «тяжело в учении, легко в бою» до предела проста и бесспорна.
Готовясь к предстоящему походу, я сетовал на то, что, собираясь из дома, не захватил с собою красно-синего карандаша, без которого, по моим представлениям, будущему командиру нечего делать на тактических учениях. «Собирался неумело, – записал я себе на память, – взял из дома много лишнего, а не взял необходимого: именно того, что нужно курсанту военного училища при стажировке в должности командира». Откровенно говоря, я не представлял себе, что бы я делал с этим красно-синим карандашом в предполагаемом походе. Просто небольшой огрызок красно-синего карандаша, даже еще и не нужный в конкретной практике стажера, воспринимался мною как элемент самоопределения, наподобие аксельбанта штабного офицера в дореволюционной армии. Как бы там ни было, а на учениях в ту ночь так и пришлось мне шлепать по грязи, в непроглядной тьме, с тяжелым минометным стволом на плече, без красно-синего карандаша.
Не пришло, очевидно, еще время, которое, как я убедился в дальнейшем, никогда не следует торопить.
23 июля. После тяжкого ночного похода спали до обеда. Во второй половине дня отдыхали, предоставленные самим себе. Я сижу на скамейке в нашем саду под липами – здесь у нас классы на открытом воздухе. Закат! Неповторимо красивый закат! Закат, вызывающий в душе какое-то особенное щемящее и в то же время восторженное чувство. Небо все в рваных, быстро летящих облаках, подсвеченных заходящим солнцем. Суровы и колоритны устюжские закаты – густые и сочные. В них как бы отражается все существо души русского человека – души мятущейся, неуемной, противоречивой и в то же время особенно чуткой, таинственной, духовно наполненной. Я пил чай. В одной руке эмалированная кружка, в другой – кусок хлеба, намазанный маслом. Утром на базаре мне удалось купить стакан черники. Я надавил ее с сахаром и заварил кипятком. Денег, правда, осталось не более рубля, ну да на казенных харчах можно прожить и без денег.
24 июля. Дивизион сдает зачетные стрельбы. Наш взвод вновь в оцеплении. Подъем в пять утра. Идем лесом, собираем ягоды, спугнули тетерок. Смех! На место вышли к восьми часам. Сниматься приказано в четыре. Погода солнечная, но не жаркая – скорее приятно-прохладная. Вокруг такая тишина, такой покой, что не верится, будто где-то идет война. Со мной книга, и время летит незаметно. Слышны сигналы трубача, глухая трескотня выстрелов, но ухо уже не обращает на них внимания. Как же мы прежде-то не ценили таких минут духовного и физического покоя?! В мире бушует кровавая, страшная бойня. Там некогда будет отдыхать. Политрук Гераськин вчера говорил о положении на фронтах – на юге опасно, как никогда. По ротам отбирают людей с дисциплинарными взысканиями, больных, хилых, ленивых, малоспособных, бесперспективных на предмет отчисления их с маршевой ротой. Редеют учебные роты. Скоро, очень скоро в артиллерийско-минометном дивизионе вместо четырех учебных рот будет две, а к выпуску всех сведут в одну батарею, не превышавшую численностью ста сорока человек.
25 июля. На полигоне боевые стрельбы из минометов. Стрелять должны лишь сводно-показательные расчеты: два взвода пятидесяток, взвод 82-миллиметровок, один расчет полковых стодвадцаток. От нас командирами орудий восьмидесяти двух минометов 82-миллиметрового калибра назначены Радченко и Курочкин. Впервые в жизни наши курсанты собственными руками должны опускать в ствол смертоносные снаряды. Нервный холодок щекочет сердце. Я еще не знал, что существует «азарт артиллериста», когда сам процесс выведения снаряда на цель становится предметом страсти.
Стажеры готовят данные для стрельбы, разведчики работают с буссолью, готовят огневой планшет. Командиры орудий, наводчики в который уже раз проверяют установки. Курсанты, не вошедшие в состав номеров орудийной прислуги, стоят по команде «вольно» в качестве наблюдателей сзади огневых позиций, образуя полукруг. Волнуются все: стажеры – потому, что стреляют впервые, начальство и преподаватели – потому, что знают о возможности «ЧП», когда кто-то путает угломер, прицел, дополнительный заряд и снаряды падают не там, где положено, а там, где их никто не ждет.
Минометная цель – это обозначенный на земле белой известью правильный прямоугольник стандартных размеров. Расчет, взвод, батарея должны накрыть его своими разрывами таким образом, чтобы края воронок не выходили за ограничительную белую черту. На пристрелку дается не более семи мин.
Подготовка к стрельбе закончена. После доклада по начальству трубач сигналит: «попади-попади», и на флагштоке взвивается красный вымпел. Раздаются голоса команд, глухо забухали стволы минометных орудий, слышны характерные, шуршащие и вместе с тем фыркающие звуки. В районе цели взметнулись фонтаны земли, и послышался звук чего-то лопнувшего. Я следил за своими. Более всего переживал за Олега Радченко.
– Прицел четыре-ноль-два, – различаю я его голос, – правее ноль-ноль-пять. Огонь!
Повторные выстрелы, и вновь шуршаще-фыркающие звуки полета мины, вновь взметнувшиеся вверх фонтаны земли, отметившие место падения снаряда.
– Твой Радченко, – уловил я голос командира девятнадцатой роты Кузнецова, обращенный к нашему Синенко, – пожалуй, четырьмя обойдется.
Так и вышло! Олег накрыл белый квадрат цели с четвертой мины, и по его орудию стреляли взводом. В экзаменационной ведомости всем были выставлены пятерки.
По возвращении со стрельб все мы – участники и зрители, – засучив рукава, драили стволы минометов банниками со щелочью, смазывали их пушечным салом. Таковы многовековые традиции в артиллерии.
После ужина у нас свободное время. Разговоры вертятся вокруг прошедших стрельб. Олег Радченко в центре внимания. Парамонов бегает по другим подразделениям и хвастает победами Олега, словно он сам поразил цели с четырех выстрелов. В какой-то мере я завидую Олегу. Мне самому хотелось быть на его месте. В то же время я не вполне был уверен в себе. Я не мог твердо сказать, что накрыл бы цель с четырех выстрелов. Олег обладал завидным хладнокровием, умел держать себя в руках, моментально и четко производить сложные математические расчеты. Я же знал за собой склонность к чрезмерному возбуждению в подобных ситуациях, а это уже означало возможность самых непредвидимых промахов. Уединившись в укромном месте нашего тенистого сада, я писал: «Всего лишь два месяца, как я из дома, а сколько событий вторглось в мою жизнь, таких событий, на которые нужно реагировать качественными изменениями собственного характера, формированием своего философского отношения к миру». Действительно, сегодня два месяца, как 25 мая мы ехали на трамвае в Ростокино, – два месяца, а кажется, прошли годы.
Почтальон вручил мне перевод на сорок рублей – подарок бабушки Анны, матери моей матери. Конечно же, деньги эти не бабушкины – откуда у нее деньги?! Кто-то из родных дал их ей, чтобы она отправила их мне, – и она мне их выслала. И я отвечаю матери: «Поцелуй бабу Аню и скажи ей, что я очень и очень благодарю ее».
26 июля. Вместо воскресного отдыха роту направляют на строительство учебного инженерного «городка» вблизи стрельбища. Сооружаемый нами комплекс должен имитировать примерный вариант обороны переднего края противника со всеми характерными особенностями инженерных объектов и препятствий, куда входят долговременные огневые точки – ДОТы и ДЗОТы, траншеи, ходы сообщений, заборы из колючей проволоки в несколько рядов кольев, увешанные сигнальными побрякушками, до которых немцы большие охотники, и, наконец, самые разнообразные МЗП – малозаметные препятствия, наиболее коварное из которых была «чертова паутина». Работали мы под непосредственным руководством капитана Лаврова, который самолично демонстрировал незаурядные способности и сноровку то плотника, то землекопа. Перерывы и перекуры капитан Лавров любил использовать для неофициальных, почти что дружеских бесед по насущным вопросам его предмета, на который в программе отведено было до смешного мало учебных часов.
– Читал ли хоть кто-нибудь из вас, – обратился к нам капитан Лавров, – о сражениях в районе Арденн, Шарлеруа и Монси в августе четырнадцатого года? – Капитан Лавров обводит нас доброжелательным взглядом. – Дело в том, что французы не признавали тогда полевых укреплений, не копали траншей, не имели даже шанцевого инструмента в ротах. Командование игнорировало огневую мощь пулеметов, магазинных винтовок, артиллерии калибра четырех и шести дюймов. У французов на вооружении состояли лишь легкие трехдюймовые пушки со шрапнельными зарядами. Немцы от шрапнели укрывались под бруствером и вели огонь через амбразуры. Уже в августе четырнадцатого немцы повсюду прочно вкапывались в грунт, обнося подступы колючей проволокой. Французы славили штыковые атаки и гибли под огнем пулеметов, зависали на проволоке. И мы немало допустили промахов в сорок первом. Мы отказались еще до войны от системы сплошных траншей и перешли на систему стрелковых ячеек. Это было ошибкой. Без траншей затруднительна связь в собственном подразделении, невозможна эвакуация раненых, да и боец чувствует себя одиноким, брошенным, что значительно снижает боеспособность подразделения. Нам нужно изучать ошибки как свои, так и противника. Французы в четырнадцатом не верили в инженерную мощь германской армии и жестоко поплатились за свое невежество. Всем ясно?
После некоторой паузы Лавров продолжал:
– Теперь нам предстоит строить линию инженерных сооружений. Здесь вам предстоят тренировки. Тот, кто готовится командовать людьми, должен прежде сам на себе апробировать всю сложность задачи преодоления инженерных препятствий противника. Вы должны освоить эти препятствия психически, не испытывать перед ними панического страха, как перед чем-то роковым и непреодолимым.
27 июля. Понедельник – начало зачетов по первому периоду обучения. Первый зачет по артиллерии: «стрельба задачками». По существу, это обычная контрольная по математике с применением элементарной тригонометрии. Отличие лишь в том, что задачка не имеет полного набора условий, а условия эти вводятся постепенно экзаменатором в процессе зачета.
Артиллерийская задачка – это, по существу, проблема треугольника, образуемого точками: «цель» – «наблюдательный пункт» – «батарея». И вся премудрость артиллериста заключается в умении перерасчета наблюдаемого корректировщиком отклонения снаряда от цели в поправку угломера и прицела на орудии. Так называемые «выведение разрыва на линию цели» и «захват цели в вилку» удавались не сразу, а постепенно.
Это-то постепенное подведение разрывов к цели методом поправок и составляло сущность вводных экзаменатора. Занятия по теории стрельбы и практику решения артиллерийских задач мы проходили под руководством взводных, а экзаменовал нас преподаватель спецпредмета лейтенант Воронов – высокий, стройный, белокурый молодой человек с умными и веселыми голубыми глазами. Гимнастерка с черными петлицами, скрещенными пушечками и рубиновыми кубиками, синие галифе с кантом, поскрипывающие ремни – все это было пригнано и ладно сидело на его крепкой фигуре. Воронов был единственным из комсостава, кто носил шпоры. Он великолепно сидел на лошади, лихо ездил верхом, вызывая у нас восхищение и зависть. Тактику полевой артиллерии, материальную часть всех систем орудий, теорию артиллерийской стрельбы, включая «полную подготовку данных», Воронов знал превосходно, а задачки «щелкал как бог».
Экзамен по связи принимал у нас капитан Ольшанский, невысокого роста, средних лет спокойный человек, в немецких трофейных сапогах желтой кожи и на кованных гранеными гвоздями подошвах. Спросить бы: где он их взял?! Занятий по связи было до смешного мало. В основном это поверхностное знакомство с устройством телефонных аппаратов, с принципами организации телефонных линий по схеме: «наблюдательный пункт» – «огневые позиции» – «штаб».
По артиллерии и связи у меня твердые пятерки. По огневой и тактике – эти предметы ведет у нас взводный, лейтенант Синенко – четверки. Мне обидно и больно: неужели этот человек так несправедлив ко мне?! Вскоре я убедился, что это не так. Синенко большинству способных и знающих курсантов на предварительных зачетах сознательно занижал оценки. Такая система выставления баллов широко практиковалась в военных учебных заведениях. Получая четверки вместо пятерок, мы бывали недовольны, обижены, даже оскорблены несправедливостью взводного, но это же и подхлестывало нас, заставляло заниматься прилежнее – ведь никто из нас не хотел получить, в конце концов, на комсоставские петлицы всего лишь один кубарь младшего лейтенанта!
Зачет по административному устройству Красной армии принимал батальонный комиссар Пулкас. Трудность этого предмета состояла в том, что все данные строго засекречены. Конспекты вести запрещалось. Все сведения заучивались только наизусть. По административному устройству войск комиссар Пулкас выставил мне пятерку. Таким образом, общий балл по первому периоду обучения вышел у меня 4,6. Что, в общем-то, неплохо!
Зачеты по классам и в поле продолжались всю неделю от понедельника до субботы включительно.
2 августа. Воскресенье. Нам разрешено посещение городского музея. День солнечный и прохладный, воздух по-особенному чист и прозрачен, дышится легко и привольно. Экскурсию организовал Олег, а старшим, к общей нашей радости, назначен капитан Лавров. Идут: Олег, Костя Бочаров, Вася Шишков, Жора Арутюнянц и Саша Гришин, занимавший положение «старика»; из второго взвода: Толя Разумов, финансист Свирчевский, Симорин и Перфильев в роговых очках с огромными стеклами. Он близорук, и всех нас интересует только один вопрос: как же он станет воевать?!
Свободно, вне строя, вышли мы за ворота. Идем по тротуару, лишь изредка вскидывая ладонь для приветствия.
В музее на набережной, в доме купца Усова, построенном в первой половине XIX века в стиле российского классицизма, встречает нас директор музея Виктор Викторович Комаров. Он старожил и патриот своего города. Ему под пятьдесят. Внешность типичного провинциального интеллигента – старенькая серенькая блуза, перехваченная ремешком, узкий галстук, схваченный бронзовой булавкой с двумя шариками, редкие седеющие волосы аккуратно причесаны на косой пробор. Взгляд серых глаз вдумчивый и усталый. Прихватив тяжелую связку огромных ключей, Виктор Викторович повел нас осматривать древнейшие соборы города.
– Прошу обратить внимание: перед нами старое Соборное дворище. – Голос у Комарова звучный, хорошо поставленный. – Прямо – Успенский собор тысяча шестьсот пятьдесят восьмого года. По правую руку – церковь Иоанна Устюжского, а за нею собор Святого Прокопия Праведного. Слева колокольня Успенского собора.
Гремя ключами, Виктор Викторович открывает тяжелые железные двери и впускает нас внутрь храма Святого Прокопия.
– Взгляните на иконостас, на это пятиярусное чудо. Оно все резное. Резчики – наши, устюжские. Виноградные листья тончайшим узором обвивают стройные колонны иконостаса. И все это резано из дерева. Заметьте, чем выше, тем резьба ажурнее и ажурнее, а верхний ярус так совсем прорезной. Вы словно воспаряетесь ввысь, и там творение рук человеческих как бы исчезает, растворяется в мире горнего инобытия. Под куполом паникадило. Также дело рук местных устюжских мастеров. И по иным городам славились устюжане своими работами по металлу. Иконы относятся к семнадцатому, восемнадцатому векам. Уровень письма их достаточно высокий. Особенно хорош Прокопий Праведный в житии. А подлинной жемчужиной Великого Устюга следует признать икону Успения Пресвятыя Богородицы, присланную Симеоном Суздальским в дар городу в 1496 году.
Мы стояли молча, словно зачарованные, с волнением слушая нашего необычного экскурсовода, боясь упустить хоть одно его слово. Мы стояли, разглядывая иконы, а под ногами нашими хрустели желто-охристые россыпи сухого, спелого зерна. Зерно заполняло все пространство храма. Его были тут целые горы, доходившие до середины Царских врат.
– Неужели в городе нет иного помещения для хранения зерна? – обратился к Комарову капитан Лавров. – Прежде-то его где-то содержали?!
– Прежде, – неторопливо отвечал Виктор Викторович, задвигая тяжелый кованый засов на двери, – зерно хранилось в лабазах. Теперь они заняты вашим военным имуществом. Кроме того, зерно это вывозное, с запада, эвакуированное зерно. И в городе, по храмам, его не малое количество.
Возвращаясь в казарму, мы делились впечатлениями. Впервые в жизни соприкоснулся я с откровением иконописного искусства. До этого момента икона была как бы «закрытой» для меня. Тут же вдруг дошло до меня, что санкир, вохрение, пробели, оживки, ассистка, обратная перспектива – все это особый язык, сложнейшие приемы изобразительного стиля.
В глубине сада было прохладно и тихо. Вдалеке я заметил одинокую и тощую фигуру Виктора Федотова.
– Вить! – крикнул я ему.
Федотов, словно пробудившись, вздрогнул.
– Ты чего это с нами в музей не пошел?
Виктор смотрел исподлобья и нехотя отвечал:
– Я думал по городу побродить. Наши в кино пошли. Я тоже билет взял, но нарочно в казарме задержался. Подождал, пока строй ушел, и через проходную – догнать, мол, нужно. Иду, а из-за угла Матевосян. «Куда идешь, в самоволку?» – «Нет, – говорю, – в кино». – «Почему не строем? В кино строем ходят! А ты в кино не пошел – ты к девкам хочешь, водку пить!» – «Нет, – говорю, – я не к девкам, я в кино. Вот и билет есть». Старик задумался. Ты понимаешь, задумался и вдруг говорит: «Ладно! Пойдем со мной водку пить!» Заходим в забегаловку у базара. Старик берет по сто грамм и кружку пива. Выпили, и он, понимаешь, начинает мне рассказывать о том, как из окружения выходил в сорок первом. «Помню, – говорит, – ночь была. Все спали. Вдруг слышу, разговаривают и меня поминают. Спящим притворился, а сам слушаю. Советуются меж собой, как им быть. Комиссара, говорят, пришить нужно. Если, говорят, к немцам с комиссаром попадем, – хана, убьют немцы. Жутко стало. Думаю, что делать? Долго спорили, потом решили уйти так, без меня, тайком. Ночью ушли, бросили, один я остался. Один из окружения выходил, червяками питался. Сталин меня потом спрашивал, почему я один из окружения вышел?» Многое еще рассказывал старик. Говорил, как судили, как ромбы сняли. А потом сам проводил меня до проходной.
Откинувшись на спинку скамейки, Виктор сидел погруженный в себя и, казалось, не замечал моего присутствия.
8 августа. Неприветливое, хмурое и холодное утро. Ледяной, мелкий дождь словно висит в воздухе. И труба горниста, будто наглотавшись этой мокроты, захлебывалась ею, а звуки казались рыхлыми. Накануне нас известили о предстоящем многодневном учебном походе и что на этот раз мы участвуем в маневрах в качестве артиллеристов, составляя расчеты 76-миллиметровой батареи. Я зачислен ездовым коренной упряжки полковой короткоствольной пушки. По штату на такое орудие положен четверик – коренная упряжка и выносная. Мы же располагали всего лишь парой низкорослых вяток на орудие с передком. Несмотря на особый предмет – конно-ветеринарное дело, все мы неважно разбираемся в нем. Занятий верховой ездой до смешного мало, меня выручало то, что с раннего детства я жил поблизости от учебного плаца кавалерийского эскадрона. И вахмистр дядя Ваня сажал нас – мальчишек – на лошадей во время тренировочной проводки. А иногда разрешалось и порысить. Как бы там ни было, но в военном училище я оказался более других подготовленным в этой области. Я любил лошадей, и заветной мечтой моей было служить в кавалерии.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽