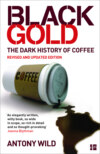Читать книгу: «Глубина», страница 4
День 17
Мы задержали дыхание и нырнули. Книги молча последовали за нами. Я их набрал огромное количество и сложил не под койку, а в электронную книгу на этот раз. Хотя есть небольшой запас и бумажных экземпляров. Это запас моего побега от реальности. Когда заступаю на вахту, чтобы не уснуть и не провалиться в собственные размышления, как зимой в реку под лёд, я беру с собой всегда книгу. Бумажный вариант я всегда прячу на кабель-трассах, чтобы книга не лежала на видном месте, не вызывала никаких вопросов. Вряд ли кто-то кроме меня захочет читать, разве что Андрей Андреевич, командир четвёртого отсека. Да-да, тот самый, из первого дня. Мы с ним периодически дискутируем на темы, освещённые в книгах. Я не буду утомлять темами наших дискуссий, напишу лишь крайнего автора, которого мы обсуждали – Айн Рэнд, она же Алиса Розенбаум, она же Позволяющая нам Забыть. Там есть где разгуляться неприкаянной мысли.
Художественные книги не положено читать на вахте. Но голова может опухнуть, если всё время без продыху заталкивать в неё знания по специальности. Тем более, вы уже видели, чем может закончиться стремление к знаниям. Большая часть экипажа берут с собой портативные проигрыватели, флэшки и диски с фильмами, берут их неимоверное количество, чтобы утопить убитое время в часах кадров фильмов. Мало кто читает книги. Может быть, эпоха такая, нечитаемая, может быть, ещё какое-то есть этому объяснение. Какая разница по большому счёту? Я предпочитаю книги, которые позволяют забыть о том, что ты изолирован от внешнего мира стальными стенами, толщей воды, сотнями миль от родного берега, молчащими телефонами. Книги дарят чувство умиротворения, оставляют наедине с ними, гонят прочь окружающий мир.
Никогда не любил читать. Точнее, читал из-под палки и в основном какую-то ерунду. В самом начале службы на Северном флоте неожиданно для самого себя стал читать книги, каждый раз всё серьёзнее, тяжелее, необъяснимее. Они позволяют почувствовать жизнь, которую чувствовали люди, которые перекладывали её в слова. Я даже в школе провалился на экзамене по литературе, забыв стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий». Меня тогда спасла завуч, которая была учителем по биологии, а я учился в химико-биологическом классе. Оценка по литературе грозила быть единственной тройкой в аттестате. Именно этим аргументировала свою защиту Татьяна Васильевна. И закрыли глаза, оставили в покое забытые мной строки бессмертного стихотворения, родившиеся под бессмертной рукой поэта. Теперь же я три раза перечитал «Божественную комедию» Данте. Вот это на самом деле комедия – забыл классика, чтобы понять и запомнить другого классика, более непонятного и чуждого. Удивилась бы учительница по русскому языку и литературе, узнав, что её ученик до такого дошёл. Дочитался.
Чтение книг тоже похоже на какой-то маринад. Точнее размышления после прочтения похожи на этот маринад – густой и солёный. Всё в нашей жизни подводной просолено. Жизни наши просолены, судьбы наши просолены, мы сами, как соль – крепчаем, дубеем, каменеем так, что соскрести трудно. Через кожу очень трудно добраться до души, найти в нас то самое настоящее, что может быть. Спрятали мы сами себя глубоко и никому не показываем. Иначе нельзя. Иначе будем слишком мягкими. И кому тогда защищать Родину? Некому. Только крепость духа и тела помогает. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Прямо, как в песне.
Сегодня перед заступлением на вахту чай пили втроём – я и два контрактника. Валёк и Балда. Почему Балда? Так же, как и Пёс – просто прозвище в моменте, прицепившееся, как репей к штанам спортивным. И вот Валёк отпивает чай – он горячий, потягивает его осторожно, остужая на вдохе, губы обжигает, но пьёт.
– Горячо? – Балда скалится.
Валёк молчит.
– Что молчишь?
И рукой ему по затылку так, что Валёк зубами о кружку бьётся, обжигает окончательно губы, проливает кипяток на себя, мокрое пятно расплывается по штанам. Смех Балды. Я сдерживаюсь. Валёк замирает. Медленно отводит голову, руку тоже отводит. И со всего размаха окатывает Балду из кружки чаем, который там ещё остался. Пятно у Балды в разы больше – на штанах, на груди, на лице. И опять смех. И просто включают заново чайник.
– Тоже попей, – только и всего в ответ тихим голосом.
И никто друг друга не ненавидит, зла не держит, просто в моменте разрядились. В таком же моменте, как и прозвища. Все мы просолены – не чувствуем боли и обиды, всё это где-то бродит под соляной коростой. И никто не вспомнит про это происшествие, да и происшествия никакого не было, только на прочность друг друга проверили, убедились, что всё на месте.
У нашего комбата есть одно хорошо известное нам выражение – «Ближайший берег под нами». Он достаточно часто говорит его, заступая на вахту. В этом есть и географическая правда – до базы на берегу сотни миль, а до дна морского несколько сотен метров, может быть, пара километров. Интересно, почему расстояние до берега измеряется в милях, а глубина измеряется в метрах? Как-то не совсем в одной системе измерений, хотя должно быть в одной. Хоть кто-то задавался этим вопросом? Сергей Васильевич всегда говорит это выражение, когда речь заходит о борьбе за живучесть, аварийных ситуациях на флоте. И смыл этого выражения прост – если что-то случится, то все мы на берегу окажемся. На том, который ближе. Воды вокруг нас ледяные – за бортом температура воды на глубине минус 2 градуса по Цельсию. Никто о нашем месторасположении не знает. Костюмы наши могут сдержать напор холода от силы пару часов, а потом тела остынут. За эти пару часов никто не доберётся до терпящих бедствие. Наши жизни в наших руках. И в наших руках и останутся. И это не пессимизм, а реализм. Тонкие стальные стены и наши крепкие морские души сдерживают ледяной напор, лёгким движением мысли, жёстким юмором и самоиронией. А как иначе? Не надо врать самим себе, надо трезво оценивать собственные возможности и варианты развития событий. Инстинкт самосохранения не позволит сдаться без боя, до последнего вдоха будем жизни свои удерживать внутри покрытой соляной коростой души. Без вариантов.
Этот ближайший берег молчит где-то там в глубине, пролетают над ним рыбы, дельфины, тюлени, касатки. Мы в своём прочном корпусе тоже пролетаем над ним. С этого берега наверняка не видно ничего, возможно, только силуэты непонятные. На этом берегу всегда темно, солнца не видно, тепла не чувствуется, вдохнуть поглубже не хочется. С этого берега не машет никто платочком, не смотрит напряжённо вдаль, выискивая знакомые силуэты. И прилечь не приляжешь в поле на траву, не присядешь где-то на возвышенности, не задумаешься о жизни, глядя вверх. Этот берег не для всех. Для нас он может быть только последним пристанищем, скорбной обителью. На самом деле, я не задумываюсь о том, на какой глубине мы сейчас находимся, какая ещё глубина под нами, какое расстояние до родной базы. Потому что какой смысл? Его нет, мысли бесполезные. Этим выражением только непосвящённых можно пугать, а посвящённых только раздражать. А комбат всегда скалится, когда говорит это выражение.
Я сегодня странно проснулся ночью в 2:30 на вахту. Мне показалось, что уже утро. Здесь легко поменять местами ночь и день – солнца нет, свет всегда одинаковый. Никто же на ночь не делает каких-то сумерек на корабле, свет дневного освещения остаётся дневным на протяжении всего похода. Нет света ночного освещения на корабле, и ламп таких нет, которые не светом светили, а сумерками или тьмой. Меня разбудили, а я думаю, что сейчас буду завтракать – достану овсяную кашу в пакетиках, заварю её, достану сырокопчёную колбасу, которую взял в базе и храню в трюмном ящике, принося понемногу в каюту, пряча за обшивку на кабель-трассах, потому что там тоже прохладно, возьму на камбузе хлеб. Хлеб сейчас только спиртовой, но он мне больше нравится – его только выпарят, как будто только испекли, корочка хрустящая, внутри мягкий. И буду завтракать-обедать в каюте кашей овсяной с бутербродами, запивая чаем. На обед мало кто ходит, поэтому коки готовят всё время что-то невкусное из-за небольшой аудитории. Какую-нибудь перловку и суп луковый. Если голод прижмёт и это буду есть, но он пока не прижал.
И все эти мысли промелькнули пока один раз моргнул глазами. Встал на холодную палубу, натянул рабочее платье, умылся, вышел в отсек, только тогда понял, взглянув на часы, что время только 2:41, что никакого завтрака сейчас не будет, что хотел сходить к Иванычу, взять ключ от душевой и помыться. Странное ощущение – похожее на разочарование от напрасного ожидания, которое закончилось лопнувшим мыльным пузырём. И ещё чувство будто обманули, что дней не стало меньше до прихода в базу, что время отскочило назад, словно от брызг из-под колёс пролетевшего мимо автомобиля. Впереди ещё долгие дни, даже не знаю сколько, не хочется об этом думать.
Я не отношусь к большинству тех, кто делает календари и зачёркивает прошедшие дни, потому что календарь мешает, он заставляет следить за течением дней, осознавать сколько дней прошло, а сколько ещё впереди – ручками и карандашами каждый день зачёркивают ещё не закончившиеся дни перед сном, чтобы спалось слаще от перечёркнутого на бумаге дня, который ещё стоит на пороге недовольный, скрестив на груди руки, глядит исподлобья на нас засыпающих. И каждый зачёркнутый день обижается, собираясь уйти. Я сознательно не смотрю во все эти календари, которые можно увидеть практически у каждого – в каюте, на боевом посту, в отсеке. Каждый человек с каким-то особым трепетом отсчитывает дни, которые так дооооооооооооооооооооолгооооооооооооо тянутся. Ощущения похожи на бег во сне. Почему? Потому что во сне, как бы не хотели ускориться, бег всегда будет медленным, против нашей воли, доказанный факт. Во сне мы бежим в замедленном действии, а организм в это время не понимает, почему время замедлилось. Вот так и с этими календарями – бег дней происходит в замедленной съёмке.
День 22
Стоило бы отметить тот факт, что рутинная середина любого процесса не запоминается. Так же и с автономкой – её середина смазывается, как нарисованный ручкой человечек в нижнем правом углу толстой тетради, запущенный на пролистывании листов в бег в никуда. После третьей недели распорядок дня отработан до автоматизма, мозг только подсказывает, что делать, когда глаза нащупывают определение времени в этом закрытом пространстве. Не появляется ничего нового – в определённое время мы совершаем определённые действия, видим лица определённых людей. Мы же задержали дыхание? Воздуха в лёгких ещё много, хватит надолго, беспокоиться не о чем, сердце размеренно стучит, отражаясь эхом в лёгких. Мы рекордсмены по задерживанию дыхания. Этот поход очередной рекорд.
У нас даже моменты, не связанные с распорядком дня, и те повторяются. Перед заступлением на вахту в 16:00, мы дружно пьём чай в 15:15, перед разводом. Многие из нас взяли с собой сало, завернув его в газету, спрятав в тёмное и холодное место в трюме. Перед автономкой целый ритуал – поехать в Мурманск, на Октябрьский рынок, найти прилавки с мясом, взять сало и простое, и копчёное. Если уж правильно оперировать какими-то выражениями, то это не совсем сало – это мясо с прожилками, или сало с большим количеством мяса. В основном все покупали именно там, тщательно упаковывали дома, заботливо укутывая в газету, словно собирая в дальнюю дорогу. И вот в 15:15 настаёт время. Мы берём свежий, недавно выпаренный ржаной хлеб, коки его разрезают напополам, но не поперёк, а вдоль, что можно было бы сразу огромный бутерброд сделать. Мы режем его на небольшие кусочки, смазывая чесноком, кладя на них сало с мясом. И запиваем чёрным чаем. И кажется, что ничего на свете нет вкуснее этой хрустящей корочки со вкусом чеснока и сала.
Та же история с варёной сгущёнкой. И с сушками из больших полиэтиленовых пакетов, которые пропитываются запахом камбуза – это на языке моряков обозначение кухни (почему я только сейчас решил объяснить это?). Сушки вбирают все запахи камбуза – супов, разделанного мяса, рыбы, сваренных макарон, гречки, перловки, вскрытых салатов из капусты. Самое интересное, что вряд ли кто-то из нас на берегу покупает сушки или сгущёнку. Вряд ли кто-то варит сгущёнку, полученную в пайке. Всё это имеет интерес и ценность только под водой, только в этих стальных стенах. И когда мы вернёмся в базу, все оставшиеся сушки будут грустно досыхать во вскрытых полиэтиленовых пакетах, мечтая о море, о своей былой славе и востребованности. Как актёры сериала «Санта-Барбара», жившие перед нами сквозь экраны старых телевизоров, собиравшие целые семьи в одной квартире.
На каждый выход в море я беру с собой гитару. Она тоже уже стала просоленной, как и моя душа, разве что ракушками не обросла. Почти каждый день я её достаю, играю какие-то незамысловатые мелодии, струны колеблются, издавая звуки разной тональности, пальцы обрастают мозолями, мозг отдыхает от затёртого расписания. Она стоит в шкафу в каюте, прячется там среди одежды, ждёт с нетерпением, когда я её достану. Ей бы тоже можно было присвоить какое-то звание, наградить за дальние походы, вручить грамоту посвящения в подводники.
Иногда мы собираемся вместе с командиром электротехнического дивизиона поиграть на двух гитарах. Максим Александрович живёт в соседнем отсеке, где хозяйствует Иваныч, я прихожу в воскресенье, когда нет никаких занятий и отработок. Они живут в каюте вместе с командиром дивизиона движения, он постоянно слушает наше исполнение песен – от Макса чаще слышно Розенбаума, их голоса достаточно похожи. Розенбаум присутствовал на моём выпуске из военного училища, одетый в военно-морскую форму с красными просветами, усами, очками и блестящей лысиной. Знал бы он, где разносятся его песни, что они остаются в кильватерном следе, остывая в холодных водах колебаниями воздуха.
В этой автономке мы на две гитары исполняем полузабытую песню Гальцева про силачей подводников, которые в Крыму пытаются отпросить у матери девочку в розовом сарафане гулять тёплым летним вечером. А мама не отпускает, знает, что подводники отчаянные парни, что закружат в вальсе или каком-то другом танце её дочь, заберут её к себе на холодный Север, где дочка будет смотреть вслед на чёрные горбатые спины уходящих в море стальных дельфинов. И розовый сарафан будет покоиться где-то в недрах шкафа, потому что погода не позволит девочке надеть его, розовый сарафан будет скучать по тёплым вечерам Гурзуфа или какого-нибудь другого курортного города.
Когда меня кто-то спрашивает откуда я родом, я отвечаю, что вырос на берегу моря. И выдерживаю паузу, пока фантазия собеседника рисует себе какие-нибудь набережные Сочи, Новороссийска, Геленджика, Севастополя. А потом разбиваю все эти тёплые фантазии фразой-уточнением о Баренцевом море, которое находится за Полярным кругом, на 69 параллели. И собеседник будто ныряет в прорубь во время крещенских морозов, остужает свой пыл и фантазии. Хоть и проходит вдоль берегов Кольского полуострова тёплое течение Гольфстрим, воды Баренцева моря остаются холодными, только не замерзают зимой, летом всё равно в них не искупаться, разве что какие-то отчаянные моржи рискнут. Я имею в виду людей-моржей, которые испытывают на прочность своё тело. Такие же моржи испытывали себя на прочность во льдах Северного Ледовитого океана, когда корабль всплывал во льдах. Эти моржи ныряли, снимали на видео. Только у этих моржей были на тот момент большие погоны. Да и сейчас у них погоны большие.
Сегодня Макс вспомнил песню группы ДДТ о капитан-лейтенанте Колесникове. Далёкий 2000 год в моей памяти совсем тусклый, потому что мне всего лишь 11 лет было. Но даже в тех детских воспоминаниях остались картинки из телевизора с какими-то дядьками в чёрной форме, которые извинялись на всю страну. Тогда мало кто знал правду, сейчас ничего не изменилось. Когда я приезжаю в отпуск, знакомлюсь с новыми людьми или старые знакомые узнают, что я служу на подводной лодке, то всегда слышу один и тот же, часто повторяющийся вопрос:
– Так, что же с Курском случилось на самом деле? – голоса разных тональностей, как строй гитары, как разные аккорды, как разные ноты.
– Вы думаете, что все подводники автоматически знают правду? – голос мой всегда в одной и той же тональности, всегда похожий на ре минор на пятом ладу с барре.
Правды не знает никто. В песне Шевчука есть правдивые строки, написанные человеком, никогда не бывшим в этих стальных стенах. После о случившемся долго будут врать. Врать ли? Кто же знает. Хотя нет, правды нет никакой, кроме той, что осталась в порванных стальных стенах. Правды, которая осталась в солёных холодных водах Баренцева моря, белых телах экипажа, оставивших свои жизни на глубине, не давших правде добраться до поверхности. Правда эта никогда не вдохнёт свежего воздуха, никогда не вернётся к тем, кто так и остался ждать своих детей, мужей, отцов, братьев, друзей, соседей.
Глубина таит в себе тёмные тайны. Только до неё не смогло человечество полноценно добраться, отравить её своим вездесущим разумом. Эта глубина не поддаётся управлению, дрессировке. Она как затаившаяся гремучая змея, которая не кусает сразу, а предупреждает своим хвостом-трещоткой, звенит ороговевшими пластинами усиленно, старается отпугнуть. Мы разрезаем эту глубину, играем с ней в опасные игры, пытаемся добраться до правды, до истины, пытаемся удовлетворить своё любопытство. Она просто так ничего не отдаст, может только забрать. А забирать у нас можно только наши жизни, которые стоят для неё пару серебряников, положенных на глаза в последний путь. Когда мы слишком заигрываемся с глубиной, она делает бросок, впивается своими клыками с ядом, забирает последнее тепло, обнимает своим холодным телом. И только тогда открывает свои секреты, рассказывает правду, дарит нам истину. Но истина эта и правда уже для нас ничего не стоит, даже этих несчастных серебряников не стоит. Правда для нас существует только, когда мы живы. Это похоже на ситуацию, когда автомобиль на большой скорости сбивает прохожего на пешеходном переходе. Прохожий упрямо шёл по пешеходному переходу, осознавая свою правоту, шёл, не обращая внимания на опасность, на приближающийся стремительно свет фар несущегося автомобиля. Удар. В мозге только мысль: «Я прав!» Но кому нужна эта правда и справедливость? Улетевшую прочь душу не вернуть этим окриком. Мы останемся в пустоте, истошно крича: «Я был прав! Вот, посмотрите! Этот водитель меня не заметил! Он совершил ошибку! Вот в чём правда!» Никто этих криков не услышит. Только глубина, которая молча будет нас окружать, кивая головой, соглашаясь с нашими словами. Она примет нас в холодные объятия, которые мы не почувствуем. Сознание правды будет нам уже недоступно. Правда остаётся на глубине, в глубине, в нашем сознании. Поэтому глубину, как и пустоту, мы можем ощутить и прочувствовать, только пока остаёмся живы, пока есть с чем сравнивать что-то пустое и глубокое.
Это воскресенье, как и отзвучавшие песни, закончится паузой, которая расставляет мысли и рассуждения по местам, дарит чувство завершённости. Завтра будет новый день, который будет таким же, как и все предыдущие. Это воскресенье лишь очередной нарисованный человечек на двадцать втором листе тетрадки, в которой всего семьдесят пять листов. Он убежит прочь, уступив место почти такому же нарисованному человечку, незначительно отличающемуся. В моменте очень трудно с ходу обнаружить различия, эти различия будут понятны, когда закончится вся тетрадь, когда все листы сложатся в одну картину, как и все ноты, которые отзвучат в целостном произведении. Только в конце можно будет поставить точку. А до тех пор – ; Хоть это и не по правилам русского языка.
День 27
У военных всегда были своеобразные отношения с алкоголем, тем более у тех, кто служил на флоте, тем более у тех, кто служил на подводном флоте. Что такое алкоголь по своей сути? Средство для бегства от реальности, способ забыться, уйти от происходящего наяву. Можно порицать это пагубное изобретение человечества, но оно существовало с незапамятных времён. В мире достаточно людей, которым трудно мириться с реальностью, находить своё место в окружающем мире, справляться с тревогами и стрессом. И алкоголь является самым простым и доступным средством для устранения всех душевных неприятностей.
Сегодня у нас были учения в отсеках, на которые так же прибывают электрик и трюмный из другой боевой части. Нашего отсечного электрика зовут Серёга. Именно Серёга – не Сергей, не Сергей Батькович, не Серёня, не Серый. Жёстко и тяжело – Серёга. Вообще электрики и трюмные самые пьющие, даже за пределами подводной лодки, флота, армии. Вы помните хоть одного трезвого пришедшего на вызов сантехника или электрика? Вот и я не помню. Серёга сидел на нижней палубе и смотрел куда-то на электрощиты, которые были в его заведовании. Он был в нормальном состоянии – не шатался, язык у него не заплетался, он не засыпал, стоило ему хотя бы квадратным сантиметром собственного тела куда-нибудь опереться. Всё бы ничего, если бы он не испугал нашего трюмного, Пса.
– Почему она орёт?
Серёга стоял возле люка в трюм и кричал туда.
– Что? – спустя некоторое время в люке появилось лицо Пса.
– Выруби её! – Серёга смотрел сквозь Пса.
– Кого вырубить? – Пёс начал волноваться, отчего решил вылезти на нижнюю палубу.
– Скажи ей, чтобы она заткнулась!
Серёга продолжал смотреть куда-то в люк, Пёс стоял рядом с ним, силясь понять, что происходит.
– Почему она так воет? Заткни её! – голос у Серёги был напряжённым, может быть потому, что он электрик, работает с напряжением, частотой и силой.
Пёс ничего не спрашивал у Серёги, а только отчаянно потел и пытался сообразить, что нужно сделать. В трюме ничего не работало, что можно было бы выключить.
– Ты слышишь её? – Серёга задал вопрос, но не повернулся в его сторону. – Она же воет от боли.
Псу уже стало страшно, но он никого никуда не звал на помощь.
– Кого, Серёга? – у него голос тоже был полон напряжения.
– Её! Она воет! – после этих слов он отвернулся от люка и сел на ящики, которые находились на нижней палубе.
Пёс почесал затылок, решил проверить догадку и выключил обогрев трюма, который представлял собой работу нагревателей и вентилятора. В трюме стало ненамного тише, но были понятны изменения в звуке для любого уха.
– Наконец-то, – Серёга продолжал сидеть на ящиках. – Она всё это время орала, теперь успокоилась. Больше не будет выть. Теперь всё хорошо.
Пёс поднялся на среднюю палубу к нам с командиром отсека. Он рассказывал о произошедшем с лицом, преисполненным удивлением. Не то чтобы мы не поверили, просто хотелось воочию увидеть состояние Серёги. Он сам решил подняться к нам и встал возле каюты командира отсека, ровно напротив ящиков с индивидуальными противогазами. Как раз в это же время пришёл зачем-то командир соседнего отсека, которому нужно было попасть в каюту, на проходе возле которой стоял Серёга. У пришедшего командира отсека в руках были какие-то таблетки.
– Я видел такие, – Серёга таращился в ящики, не поворачивая головы в сторону собеседника.
– Что? – Андрей Андреевич, опешил и остановился, тщательно рассматривая Серёгу.
– У меня тоже такие были, – Серёга стоял, не двигаясь.
– Что ты здесь стоишь? – Андрей Андреевич не знал, что можно ответить на такой вопрос.
– Была команда: «По местам стоять», поэтому и стою, – эмоции даже рябью не пробегали по его лицу.
– Про что ты говорил, что они у тебя тоже были?
– Таблетки, – Серёга воткнул взгляд в эти самые таблетки.
– Что за бред, – Андрей Андреевич нырнул в каюту нашего командира отсека.
Нам в целом стало понятно, в каком волшебном состоянии находится Серёга. Он перепил, поймал «белку». Его надо было отправлять в свою каюту.
В пятом отсеке появился старшина второго отсека, он же техник-электрик, он же какой-то родственник Серёги. Мы попросили его поговорить со своим подопечным, ибо его состояние оставляет желать лучшего. Старшина улыбался. Он не верил. Он стоял к нам лицом, а Серёга спиной, о чём они разговаривали слышно не было, но улыбка медленно сходила с лица старшины, как снег под весенним солнцем. В итоге Серёгу отвели в его каюту.
Всё бы ничего, но у Серёги на самом деле сорвало все тормоза. К вечеру он оделся, собрал сумку и пошёл на выход. Он не верил, что мы в автономке, говорил, что брат его ждёт на пирсе, что пора уже идти домой, потому что вахта закончилась.
– Какая ещё глубина? Какое море? Какие сто метров? – Серёга невидящим взглядом смотрел на окружавших его сослуживцев. – Меня жена ждёт. Что я ей скажу?
Его силой затолкали обратно в его каюту, дали выпить разбавленного спирта, уложили спать. Он придёт в себя несколько дней спустя, наверняка. Вряд ли будет помнить, что с ним происходило в этот день, который станет прошедшим. Память бережно накроет саваном этот день и эти события, чтобы не тревожить душу.
Проблема в том, что на корабль для проведения технического обслуживания многих механизмов выдают спирт – не древесный, но и не медицинский, а технический, то есть грязный. Этот факт, к сожалению, мало кого останавливает, даже подкреплённый рассказами о приобретённой слепоте или других видах увечий. Для электриков выдают, наверное, больше всех спирта. И там больше всех пьют. Макс придумал средство от несанкционированного поглощения органического соединения – он в спирт добавил средство для мытья посуды под всем нам известным названием из рекламы про две соседние деревни. Получилось, что свойств спирт никаких особо сильно не потерял, но теперь стало проблематично его пить. Так считал Максим Александрович, так подсказывала обычная логика. Но люди, у которых душа и тело просят огня, не останавливаются даже перед такими мелочными преградами. Ведь спирт можно пить и с этим средством, появляется новый оттенок вкуса, жаль только, что пузыри потом мыльные не пускают. И на самом деле такой спирт выпил один его подчинённый – старшина второй статьи, который закончил Школу Техников в этом году, молодой специалист достаточно внушительных размеров и обладатель веса больше центнера, в принципе непонятно, как он попал на подводную лодку, ведь даже в спасательный костюм он еле помещается, но ладно, это лирика и не относится к истории со спиртом. И вот это юное дарование, исследующее окружающий мир методом проб и ошибок, очень весело со словами: «Ну и что, что там это?», всадил в себя химически разностороннюю жидкость, пробормотав потом что-то о промывке желудка и кишечника. С такими отчаянными людьми даже не знаешь, что делать. Смекалка Макса была в тупике, желание народа удовлетворить свои потребности взяло вверх.
И таких историй очень много. А всё почему? Нечем заняться товарищам, носящим погоны, обладающим недостаточно высоким уровнем самосознания и развития, хотя бы интеллектуального. Поэтому в армии практически ввели сухой закон, по которому любое употребление во время службы влечёт за собой необратимые последствия в виде отлучения от лона. Это сложно назвать алкоголизмом, скорее очередная привычка убивать время, которую нечем заменить, а время убивать нужно.
Я сам ради эксперимента сделал спиртовую настойку. Взял пол-литра спирта, налил его в бутылку из-под негазированной питьевой воды, добавил туда чайные пакетики, парочку кубиков сахара, апельсиновые корки. Эту непонятную смесь положил далеко, глубоко, прочь с глаз, в тёмное и недоступное для детей место. Не могу предположить, что из этого выйдет, но сейчас у меня не появилось особого желания даже попробовать это творение. Наверное, оставлю этот сосуд до прихода в базу нетронутым, а потом разберусь, что с ним сделаю. Вряд ли выпью. У меня нет желания убежать от реальности, нет желания убивать время таким способом, нет желания ощущать этот жидкий огонь, бегущий куда-то в недра живота, бьющий по глазам и вискам, заставляющий краснеть. Я хочу трезво ощущать этот мир со всеми его изъянами и несовершенствами. Я не ханжа, нет, я выпиваю, но редко и для этого должен быть подходящий случай, а не просто усталость от обстоятельств и людей. Как-то на мой взгляд глупо топить своё горе в горьких каплях алкоголя, неважно какого.
Вот даже сегодняшний пример Серёги – он завтра ничего не вспомнит, как сегодня пытался выйти из подводной лодки на глубине сто метров, он не вспомнит, что его товарищи усердно спасали его от опрометчивого шага, он не вспомнит, что разговаривал со всеми нами, находясь в какой-то параллельной вселенной. И хорошо, что начальство его не увидело, не встретило, не стало с ним разговаривать. Потому что мало кому покажется смешным пребывание в астральном состоянии, мало кто сможет понять, почему Серёга это сделал. И причин субъективных у него было хоть отбавляй.
И самая главная причина – он не знал, как убить время.