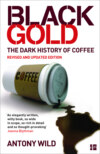Читать книгу: «Глубина», страница 5
День 29
День сурка, ничем не отличающийся от предыдущего, только еда в столовой другая в тарелках, а люди и речи всё те же. Терпение, как воздух в лёгких, когда нырнул, задержав дыхание, пока ещё не заканчивается. И нырок похож на предыдущее предложение – проходим через несколько слоёв, усложняя, погружаясь глубже. Время похода близится к экватору – это означает середину плавания. Интересно, что моряки заостряют своё внимание на том, что они не плавают, а ходят. Почему же тогда плавание остаётся без внимания? Ведь мы говорим – ушли в плавание. Тогда уж по совести – ушли в хождение. Мысли похожи на стайку воробьёв, которая прыгает с куста на куст, меняясь между собой местами, приводя спокойствие в суматоху.
Наша боевая часть занимает два отсека из одиннадцати. Причём, достаточно больших по размерам. Ещё бы, вместить в себя тополиную рощу! В каждом отсеке есть свой командир отсека. Про Андрея Андреевича я говорил, он командир четвёртого отсека. В пятом отсеке командует Юрий Евгеньевич. Интересный момент – в этих стенах мы не обращаемся друг к другу по воинским званиям, к офицерам обращаемся по имени-отчеству, только к командиру все обращаются «товарищ командир».
Так вот. Когда я только пришёл служить на подводную лодку, то попал как раз под командование Юрия Евгеньевича, тогда он был моим командиром группы, а сейчас является только командиром отсека. Да, нюансов много, не буду усложнять информацией. Кстати, по прошествии времени, Юрий Евгеньевич превратился незаметно в Юр Генича, потому что так было проще произносить.
В Гаджиево я сначала попал на Борисоглебск, который стоял прикованным к причалу, дожидаясь отправки в утиль – то есть списания с плавсостава, то есть распила на иголки. Именно оттуда меня забирал к себе Юрий Евгеньевич, тогда ещё только получивший старшего лейтенанта. Я не сразу пришёл в новый экипаж, отсрочивая этот момент, боясь попасть в ходовой экипаж, потому что режим службы сразу ужесточится. Вариантов у меня было немного, как вы могли бы себе представить, ведь военные люди подневольные, собственное мнение здесь абсолютно до фонаря любому из начальников. Мне тогда было 19 лет, совсем ещё молодой, с мичманскими погонами, страхом в глазах, трясущейся душой. Множество новых сослуживцев, вечно занятых, пробегающих мимо из отсека в отсек. Я пришёл сразу на должность старшины команды, старшины отсека, старшины швартовой команды. В школе я был тихоней, никогда никем не руководил, меня этому никто не учил, никто не предупреждал о сложностях взрослой жизни. А теперь – здравия желаю, товарищ старший лейтенант Юрий Евгеньевич!
Он как-то меня позвал на обед к себе. Жил он в посёлке, недалеко от КПП (это вход на базу). Для меня было неожиданностью, что на обед мичмана позвал офицер, потому что всё же мы из разных сословий.
– За забором нашей замечательной службы можно на «ты», – сказал Юрий Евгеньевич, когда мы зашли в его квартиру, которая отложилась у меня в памяти в каких-то белых и бежевых тонах.
– Хорошо, – я стаскивал с себя шинель, оглядывая квартиру.
Я не помню, что я там именно разглядывал. В памяти остались склеенные макеты каких-то кораблей на полке да электрическая плитка на кухне, которая замещала бывшую когда-то здесь буржуйку. В этом доме по проекту не предполагалась ни газовая плита, ни электрическая. Очень странный дом, находящийся рядом с городской площадью. Почему площадь городская, если все называют Гаджиево посёлком?
– Будешь самбуку? – новоиспечённый Юра для меня говорил откуда-то из комнаты. – Только надо открыть бутылку.
Он притащил бутылку на кухню, включил плитку, поставил на неё кастрюлю с макаронами вроде бы.
– Мне алкоголь отдал мой однокурсник, к нему жена приехала, – Юра усмехнулся.
– Может плоскогубцами попробуем? – я рассматривал бутылку без крышки с белой этикеткой, прозрачным содержимым на половину бутылки. – Я никогда не пил самбуку.
– Точно! – он пошёл обратно в комнату. – Я тоже не пил, – приглушённый голос раздался откуда-то из недр.
– У вас, – я споткнулся, – Тебя. У тебя есть плоскогубцы? – было непривычно называть его на «ты», внутри было ощущение того, что я что-то нарушаю, за что он серьёзно посмотрит на меня, выдержит осуждающую паузу.
– Вот! – он вернулся из недр квартиры, вручил мне плоскогубцы.
Я плоскогубцами ковырял пластик дозатора, пытаясь его извлечь из бутылки, пластик крошился, крошилось моё терпение, крошились минуты на секунды, убивая время нашего обеда. Спустя какое-то время я победил – горлышко бутылки было освобождено от дозатора.
– Готово! – я был рад своей победе.
Вкус этой прозрачной жидкости был тягучим и сладким. Послевкусие было тёплым и головокружительным. Путь до корабля был лёгким и быстрым. Ощущение чего-то нового и неуловимого.
Экипаж – это семья. Правда, всё зависит от командира. Мне с моим командиром повезло. Много чего было, много чего есть и много чего будет. Наш отсек в этой автономке после субботних осмотров был лучшим по кораблю, что подтверждалось висящим вымпелом. И этот вымпел никуда не переходил. Всё зависит от командира. Юрий Евгеньевич собрал отличную команду и отлично ей руководил, я ему в этом помогал. Эти пятнадцать метров в длину были домом, который надо было оберегать от всех невзгод, которые всегда предполагались, но никогда не происходили.
Сегодня впервые.
– Саня! Пожар в отсеке! Аварийная тревога!
В мой сон ворвался крик. Силуэт на пороге каюты. За силуэтом сумерки. Спрыгиваю. В ногах и руках слабость, под ногами холодная палуба. Тапки на босые ноги, штаны, майка, без верхней части, противогаз в красной коробке на поясе. В голове какой-то хаос. Выбежал в отсек. Там только аварийное освещение. Команды по кораблю, которые пока не воспринимаются мозгом. Юрий Евгеньевич на связи с центральным постом. Лицо у него бледное, в глазах страх. У меня, наверное, тоже.
– В каюте матросов задымление, – он коротко бросил в меня эти слова, я их еле подхватил, потому что они были слишком тяжёлыми и неожиданными, как брошенный мешок с песком.
Сон куда-то убежал. От страха, потому что он такой же, как мы – подвержен любым изменениям извне. Я побежал прочь от него. У каюты матросов целое столпотворение. Отсеки должны быть герметично задраены, чтобы авария никуда дальше не распространилась. Аварию должен устранять личный состав отсека, никто больше не должен здесь присутствовать. Но почему-то присутствовали командиры дивизионов электромеханической боевой части. Очень странно, почему они нарушают боевое расписание.
– Просто чайник закоротило, – голос из каюты, принадлежит кому-то не из нашего отсека. – Отбой. В центральный докладывайте.
Юрий Евгеньевич появился из каюты и пошёл к своему посту.
– Всего лишь закоротило, – кто-то ещё вставил свой комментарий.
Согласно двадцатой статье, любой обнаруживший хоть малейшие признаки задымления, поступления воды, хоть запах, хоть тонкий намёк, должен объявить аварийную тревогу. Предотвратить легче, чем бороться. А на лицах всех этих командиров дивизионов выражение лица такое, будто они хотят сказать: «Ну и зачем объявили тревогу? Просто испугались? Могли бы и разобраться». Если бы разбирались, то могли бы и не разобраться. Сон куда-то окончательно ушёл вместе с отбоем тревоги и расходящимся по своим местам и каютам экипажем.
– Всё, Сан Саныч, можно спать, – Юрий Евгеньевич улыбался, но оставался бледным.
Сумерки на корабле закончились, включилось нормальное освещение. Прозвучала команда по кораблю: «Отбой тревоги», без использования колоколо-ревунной сигнализации. Внутри наступило облегчение от того, что ни с чем бороться не нужно, что всё продолжится в том же режиме. Я не рассказал о том, что на кораблях – не только подводных – используют систему оповещений с помощью звонка и ревуна. Сигналы схожи с азбукой Морзе – короткие и длинные сигналы в разном количестве и комбинациях обозначают определённые мероприятия. Например, сегодняшняя аварийная тревога игралась бы: 20 коротких сигналов звонком, а отбой тревоги – 3 продолжительных сигнала звонком. Только в автономке ни звонок, ни ревун не используются – для меньшей слышимости под водой. Все тревоги объявляются только голосом.
Сегодня мы спасли день сурка. Быть героем не очень хотелось, потому что герои долго не живут. В наше время мало кому дают звание Героя России за какие-то великие подвиги. Что я считаю великим подвигом? Не знаю. Что-то великое. Но людям нужны герои, потому что иначе нельзя. Потому что иначе на кого равняться? Поэтому героев назначают. Мы должны понимать, что есть место подвигу и в наше спокойное время.
Я пошёл в курилку. Там сидел разбуженный тревогой народ. Там сидел какой-то новый в нашем экипаже офицер, командир группы гидроакустиков из другого экипажа.
– Я уважаю Потапова, – дыма в курилке было под завязку, фильтры уже плохо справлялись, пора было их менять. – Он из старого поколения командиров. Он отстаивает свой экипаж.
Я явно пропустил начало истории, поэтому впитывал его слова вместе с дымом в своё рабочее платье и лёгкие.
– В прошлую автономку он взял с собой Кириллова.
Кириллов – старший мичман, который был близок к пенсии. Он умер через десять дней после возвращения из прошлогодней автономки. Тот поход его убил. Потапов его убил.
– Знаете, почему он его взял с собой? – ответом была тишина, обнимавшаяся с застывшим дымом. – Этот Кириллов с кем-то подрался в кабаке. Хорошо очень получил по голове, потому попал в госпиталь. Что там ему поставили за диагноз неизвестно. За месяц до автономки он опять обратился в госпиталь, потому что болела голова. И тогда ему сказали, что у него какая-то не-о-пе-ра-бель-на-я, что за слово, опухоль.
– Точно, ему же предложили лечь в госпиталь, – с нами сидел техник-гидроакустик.
– Да, предложили. Он отказался.
– Могли ведь спасти, если бы он согласился, – продолжил техник.
– Ты подожди, – командир группы закурил вторую сигарету. – Он разговаривал с Потаповым после госпиталя. Потапов ему сказал, что, если останется на берегу, ляжет в госпиталь, его не спасут врачи. А начальство в это время его спишет, зная неутешительный диагноз. А Потапов будет в автономке. И он сказал Кириллову, что при любом раскладе тот умрёт. Разница лишь в том, с чем останется его семья. Если его спишут, то ни с чем. Если он пойдёт в автономку, то Потапов сделает всё, чтобы пенсия и квартира досталась его семье. Кириллов сделал свой выбор.
Вот оно как. Я вышел из курилки, забрав с собой размышления. Это был трудный выбор. И тяжёлый груз ответственности на командире. Тяжело принимать рациональные решения, отбросив прочь эмоции, как кусачую дворняжку, которая, рыча, хватается за штанину. Тяжело с этими решениями потом жить. Именно такие решения определяют героев. Именно таких героев не хватает стране.
Сон тяжело придавил меня в каюте, словно переборочная дверь.
День 33
Что меня ждёт на берегу? Кто меня ждёт на берегу? Притаившаяся неизвестность, которая скребётся об поверхность моря, не может никак до нас добраться, потому что мы на глубине. Мой брак очень странный. Мы встречались всего год, да и тот на расстоянии. Потом я решил ей сделать предложение. Точнее так – мы были в очередной автономке, в которой я решил, что эти отношения на расстоянии не для меня, да и вообще просто эти отношения не для меня. Решил, что нужно расстаться, а вместо этого сделал предложение. Забрал с собой на север. Спрятал нас в двухкомнатной квартире в маленьком закрытом городе, затерянном где-то среди похожих друг на друга сопок, тысячи озёр, холодного побережья моря. Нам было хорошо – вдвоём, за закрытыми дверями и границами, далеко от всех родных, среди таких же семей. Она так и не пошла на работу, потому что идти на работу в какой-нибудь круглосуточный магазин так себе затея, а большего невозможно было найти в этом городке.
Каждый выход в море так. Мне кажется, что на берегу она меня уже не ждёт, что собрала свои вещи и уехала обратно в родное Подмосковье, в шум большого города, подальше от этого затишья Заполярья. Мне не нравится находиться в неизвестности, а сейчас я именно в ней, на глубине, задержал дыхание и затаился. Хотя нет, не затаился – я бы с радостью вырвался на поверхность, скорее бы вышел на связь, окунулся в радиочастоты. Чтобы узнать – всё хорошо, все здоровы, она никуда не уехала, всё так же в те же стенах, ждёт, даже скучает. Каждый раз уходя, я видел её слёзы, как и в этот раз. Мне всегда неуютно от того, что она плачет передо мной, я не знаю, что с этим делать, поэтому впадаю в ступор, опустив руки вдоль туловища, ожидая прекращения эмоций. Она успокоиться не может, до самого выхода моего, потом ещё в трубке телефонной сквозь шуршание динамика слышны всхлипы. Неужели по-настоящему? В том смысле, что можно из-за моего предстоящего отсутствия так плакать?
Мне на каждом выходе в море мерещится, что на берегу ожидает какая-то потеря, чья-то смерть, что-то нехорошее. Эти мысли повисают маревом перед глазами, стучат в висках надоедливым пульсом, удерживаются на одном месте, словно цепь, которая сдерживает порывающуюся убежать собаку. Мне так не хочется обо всём этом думать, но мозгу своему приказать не могу, или не умею, или ещё что-то. Она меня ждёт на берегу и не представляет, как меня перелопачивает, переворачивает, выворачивает, скручивает. Похоже на какую-то ломку. И сил не хватает всё это прекратить. На берегу же будет всё хорошо, потому что даже месяц не срок. Эти два с небольшим месяца тоже не срок. Пролетают два месяца для людей на берегу, как чайки над заливом – никто не обращает внимания, не замечает. А меня внутри крутит-крутит-крутит-крутит-к-р-у-т-и-т.
Из этой автономки она обещала встретить на причале, вместе со всеми. Мой друг должен ей в этом помочь, потому что я не подавал её в списки, когда записывали тех, кто будет встречать в базе, чтобы можно было пройти гражданским. Я об этом узнал, когда звонил ей перед самым выходом. «Я постараюсь тебя встретить на причале», вот что прозвучало в моём ухе за несколько фраз до окончания разговора. Меня никогда не встречали, да и некому было.
Главное, чтобы было кого встречать. И такие мысли бывают. Потому что за бортом молчаливая ледяная вода, берег в сотнях миль от нас, только дно притихло где-то под килем, провожает нас угрюмым взглядом. Если что – оно нас приютит, положит бережно на себя, укроет донным песком и водорослями, просолит окончательно тело. Будем мы ужасно бледными с выпученными глазами лежать и дожидаться, чтобы нашли. Находят редко, потому что если что-то забирает себе глубина, то никому не взять обратно.
Мне сегодня приснился ужасный сон, я впервые резко вскочил посреди ночи. Знаете, как это бывает? Мне снилось, что у нас были очередные учения, на которых мы отрабатывали действия по борьбе за живучесть, неожиданно для нас в отсек начала поступать вода. Это было как в фильме «Титаник» – она была прозрачной, ползущей вверх, не останавливаясь. А мы просто впали в ступор. Никто не отвечал ни по какой связи, на корму был сильный дифферент, отчего мы все столпились у носовой переборки. Все молчали, только вращая глазами по сторонам и наблюдая, как вода добралась до средней палубы, как эта вода начала лизать ноги. Вокруг было неестественно светло, я ещё подумал о том, почему же не вырубилось электричество. Вода прибывала и прибывала, рядом с нами уже плавали жилеты, какие-то пластиковые игрушки, непонятно откуда взявшиеся, какие-то брёвна и доски. И вода всё так же была прозрачной, отчего не было чувства страха или опасности, была уверенность, что это как в бассейне, мы возьмём и поплывём по шестой дорожке, задержимся у бортика, болтыхая ногами, ничего с нами не случится. Воды стало уже по шею, я оторвался от палубы ногами и держался на плаву. Вода не была холодной, будто её как в бассейне подогрели, а может быть наши трюмные постарались и включили нагрев воды. Нас всех подняло к потолку, резко выключился свет, и вода вместе с нами стремительно куда-то стала уходить, как из ванной, из которой выдернули пробку. Меня затащило под воду, кто-то держал за ноги, воздуха совсем не было.
Я вынырнул прямиком на своей койке, слыша, как широко открытым ртом я отчаянно втягиваю весь возможный воздух. Меня немного трясло, первое, что было в трезвой голове – мне удалось спастись, хотя никакого утопления не было. Сердце отбивало чечётку, эхо которого отдавало в пятки, казалось, что ноги сейчас задрыгаются в такт. Я включил прикроватную лампочку и лёг обратно на спину. Вокруг была практически полная тишина – только где-то под палубой слышалась работа вентилятора, он работает почти постоянно, потому что иначе было бы невыносимо душно. В голове была какая-то непонятная шумящая пустота, как в ракушке, которую прикладываешь к уху и слышишь шум моря. Мы были внутри большой ракушки – если бы кто-то мог приложить ухо, то обязательно услышал, как мы шумим морем, как в нас шумит море, как мы – само море. Часть корабля – часть команды. Всплыла же откуда-то эта фраза, как нельзя хорошо описывающая наше положение. Всё это фантазии. Но что-то необъяснимое присутствует в этих молчаливых стальных стенах.
Жизнь очень хрупкая и ломкая, стоит только куда-то приложить чрезмерное усилие, и всё, трещина пошла, разделяя целое на куски. Нам всегда кажется, что будем жить вечно, что нашего здоровья хватит на миллионы рабочих часов, что механизм никогда не собьётся и не износится. Наверное, это называется молодость. Здесь, внутри, мне кажется, что нахождение на границе жизни и смерти дарит бессмертие, титанические силы, бесконечную храбрость. А на самом деле жизнь всего лишь, как углерод – имеет разные формы, похожие на грифель или алмаз, один из которых крошится, а другой, при всей его прочности, подвержен изменениям под влиянием температуры. Света в конце тоннеля не будет, потому что его выключат в самом его начале, и будешь ты пробираться или стоять в абсолютной тьме, где потеряется личность, где не окажется души.
Сегодня я понял, что календари начинают иметь значение и для меня. Я свой календарь не завёл, но всегда ищу взглядом чей-нибудь неподалёку, чтобы сверится, чтобы увидеть эти бездушные цифры – перечёркнутые, обведённые, закрашенные, заштрихованные. Но ни одна из этих цифр не забыта. Все семьдесят пять смотрят на нас отсутствующим взглядом, испытывают на прочность, заставляют что-то шевелиться или в голове, или где-то в груди. И сейчас две тройки смотрят на меня, преображаясь, то в две буквы «з», то в очертания пятой точки, то в две буквы «р» на английской раскладке клавиатуры, то в волны прибоя, то в овечью шерсть. Эти цифры изменят сознание, заставляя его переливаться, как бензин в луже на солнце. Эти цифры паяльником выжигают следы, которые никогда не стереть и не забыть. Они снятся, они наяву, они поджидают, даже когда ты далеко от них, даже если ты не хочешь их видеть, они настойчиво проникают через глаза в душу, мозг, сущность. Никуда не деться уже от этих цифр, как бы я ни старался с самого начала похода. Они достали меня, найдя по кильватерному следу переживаний.
Воздух внутри лёгких начинает заканчиваться, но должно хватить ещё на половину пути, на возвращение туда, откуда начали, где нырнули. В лёгкие немного постукивает то ли сердце, то ли сами лёгкие подёргиваются. Весь наш корабль – большая голова, а каждый из нас всего лишь мысль, всего лишь импульс между нейронами. Синапсы не между всеми нами существуют, где-то есть и обрыв. Мы перемещаемся по разработанным шаблонам, которые в нас давно заложены, наши действия автоматичны и предсказуемы. Это нужно, чтобы голова не болела. Сейчас голова понимает, что запас воздуха истощается, что его хватит только на возвращение, главное, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций. Главное, чтобы нырок прошёл по плану. Главное, чтобы, когда вынырнем, мир остался прежним. Смешно. И наивно.
Я лежу и смотрю на отсвет от прикроватной лампочки. Тень моего тела расплескалась по стенкам каюты вокруг меня, как остатки кофе на стенках кружки. Странный орган – наша голова. Туда поместилось столько всего, там целый мир, который может существовать и функционировать параллельно реальности, там происходят миллиарды химических реакций в секунду, рождая всплески эмоций, мыслей, переживаний. И этот сон, в котором я тонул, был всего лишь секундной вспышкой где-то в мозге. Я читал, что сны снятся какие-то секунды, а нам кажется, что часы. И снятся они перед тем, как мы проснёмся. Интересно, почему у меня не осталось воздуха в лёгких, когда я вскочил? Я во сне задержал дыхание? Остаётся только предполагать, а кто-нибудь другой будет располагать.
На часах уже 02:18, скоро вставать, одеваться, идти к Иванычу, забираться под душ, быстро мыться, чтобы не оставлять следов своего присутствия, пить чай и идти на развод на вахту, где командир моей боевой части будет рассказывать про ближайший берег и задавать каверзные вопросы, потому что ему скучно и хочется ощутить превосходство. Вахтенный инженер-механик расскажет нам про аварийные случаи, которые имели место на флоте, мы сделаем выводы и будем очень бдительны. Но страх притупляется, как нож, который забыли поточить, а теперь им даже хлеб трудно резать. Нужно заточить, нужно оголить этот страх, и лучше оголять его такими рассказами аварий, чем на самом деле бороться с авариями и оказаться потом где-то написанным в чьих-то журналах и папках.