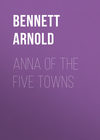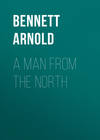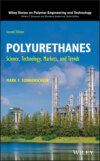Читать книгу: «Ефросинья», страница 4
– Как же хорошо, что ты встала. На улице так тепло. Посиди на солнышке, мамочка. Помнишь, как говорила баба Варя, что солнышко все хвори лечит.
– Её оно не сильно вылечило,– спокойно ответила Степанида, – Ты, дочка, брось дела. Иди на улицу с подругами, я сама тут управлюсь.
– Как же ты справишься, ведь ты болеешь?– Тамара непонимающе смотрела на мать, не выпуская из рук ведра.
– Лучше мне уже. Иди, Тома, иди. Потом может и времени для игр больше и не будет.
Тамара осторожно поставила ведро около умывальника и, молча, вышла из дома, оставив Степаниду снова одну в тишине и своих мыслях.
Глава 4.
Фросю как обычно провожал Лёша, держа её за руку и молча идя по грязным весенним улицам. Сегодня он принес ей коробочку с ландрином, бог знает, где он его достал. Она шла довольная, крепко сжимая его мозолистую ладонь. Да, не был Алексей красавцем, ростом был он невысок, почти такой же, как и она. Густая черная как смоль шевелюра быстро отрастала на его голове, как и его борода на лице и поэтому ему часто приходилось обращаться к местному цирюльнику при бараке. Нос его был широк, приплюснут, лицо круглое, но вот глаза завораживали. Были они не просто зеленые, а карие внутри, окаймленным зеленым ярким цветом, придавая его владельцу загадочности и мистичности. Любила Фрося украдкой смотреть в его глаза, как будто ища там что то, чего не было больше нигде. Алексей был старше её на год, ему было уже восемнадцать. Считая себя уже взрослым, иногда он начинал разговор, о том, что ему как мужчине нужно записаться в армию, повоевать, но Фрося протестовала и быстро переводила на другую тему.
Вот и сегодня он, прервав молчание, стало было, заговорил о долге и службе, как Фрося прервала его:
– Лёшенька, нас Мариша и Федор приглашают на свадьбу.
Алексей замолчал, задумался, потом спросил:
– Это который избач?
– Мариша моя подруга, а свадьба у них совсем скромная. Я обещала ей. Там никого почти не будет, родителей её тоже не будет.
– Почему?– удивленно спросил он.
– Они против. Такое тоже бывает.
– Бывает,– согласился Алексей,– мой отец тоже на маме женился без родительского благословения. Ну, ничего, дед его все равно простил. Если звали, значит пойдем, Фрось. Только что дарить то будем?
Фрося пожала плечами, не найдя ответа.
– Ничего, подумаем, – сам себе ответил Алексей.
У самого дома Фроси, они еще стояли, обнявшись, но услышав скрип соседской калитки, они смущенно отошли друг от друга к ограде.
– Ну, иди, Лёшенька,– попрощалась с ним Фрося и, не обернувшись вошла в калитку ворот.
Алексей, еще простояв с минуту у её дома, медленно развернулся и пошел к себе в барак.
Дома Фросю ждала мать, Тамара и вечно занятый брат. Все трое разом посмотрели на неё, а Тома вскочила с места и радостно подбежала к ней.
– Ну, чего принесла сегодня? – рассматривая бидончик в её руках, спросила она.
– Принесла, но только суп. Ничего больше не осталось.
Мать отчаянно вздохнула и отложила вязание в сторону.
– Ну и у нас картошка, вот и поедим на славу,– с вдохновением произнесла Тамара, единственная, кто в этом доме не унывал.
– А еще, у меня вот,– и Фрося смущенно достала коробочку с ландрином,– Но только по одной, а то на завтра ничего не останется.
После ужина, Илья и Тома быстро легли спать, а Степанида при керосинке пыталась довязать носки. Фрося сидела за столом и сосредоточенно читала какую-то книгу.
– Глаза испортишь, Фрося. Спать ложись,– не поднимая на неё глаз, сказала Степанида.
– Уж больно, интересная. Дочитать осталось пару страниц.
– Споришь опять, Фроська. Про любовь, небось, читаешь?– мать посмотрела на неё украдкой в ожидании ответа.
Фрося покраснела, но ответила, хоть и не сразу:
– Про любовь. Про Рыцаря, как он одну девушку любил, а потом на войну ушел. Там в плен попал, а девушка то ждала его, ждала, все плакала по нему, да потом её замуж за другого выдали. А рыцарь то молодец, сбежал из плена и вернулся, ой, и что тут началось. Дуэли, турниры…
– Ой, Фроська, всякой ерундой забиваешь свою голову.
– Да вот ты послушай. Он ведь ради неё на все готов пойти. Просто на всё. Вот сейчас он с её мужем будет за неё у Большой реки биться.
– Все мужчины таковы пока не женятся.
– А отец такой же был?– неожиданно спросила Фрося и, ожидая ответа, отложила книгу в сторону.
– Ваш отец – не рыцарь. Он простой мужик,– не задумываясь, ответила Степанида,– Иди спать, Фроська, тебе на работу рано вставать.
Всю ночь не спала Степанида, мысли все лезли как тараканы в голову. Уже утром, проводя Илью и Фросю, она попросила Тому сходить к Черновым и передать Глаше, чтобы та возвращалась домой, сюда в отчий дом. Она прибралась в избе, поставила кашу томиться в печку, убралась в коровнике и в птичнике, пытаясь делом хоть как то унять дрожь в теле.
Глаша в этот день не вышла на работу, у неё заболел Ваня. Вся раздраженная и невыспавшийся, она заваривала из тех трав, что были у бабы Клашы, отвар для сына. Она совсем не ожидала увидеть свою сестру, которая радостная влетела в тесную избу Черновых.
– Здравствуйте, баб Клаш, – задыхаясь от бега, поздоровалась Тамара, – Глаша, мамка домой тебя просит вернуться. К нам домой.
Глаша посмотрела на неё покрасневшими от недосыпа, глазами:
– Не вернусь.
– Да чего ты, с ума сошла что ли?– непонимающе спросила её Тома,– Тебя домой просят, а она у чужих место занимает.
– А мне тут роднее. Иди, Тома, не до тебя мне.
– Не уйду без тебя! Ну, хоть вы, баб Клаш, скажите ей! Ведь нельзя так! Мамка и так болеет! Плачет без конца.
– А когда она не плачет? Как что, так в слезы. А у меня теперь своя жизнь,– не унималась Глаша.
Баба Клаша покачала головой и сдвинула на лоб свой застиранный серый платок. Тома в это время села на порог и произнесла ультиматум:
– Не уйду я без тебя! Придется тебе меня выносить на руках из дома.
Глаша вздохнула, отложила деревянную ложку, которой только что мешала отвар:
– Не доводи до греха, Тома. Уходи и матери передай, я теперь сама по себе и слушать никого не намерена. Натерпелась, хватит!
Тома встала с порога, отряхнув с подола сор:
– Вот так и передам. На твоей совести будет, если ей плохо станет! До свидания, баб Клаш.
С этими словами Тома выбежала из дома и, завернув за угол дома, разревелась. Домой она шла медленно, постоянно, на что-то отвлекаясь. Уже на крыльце дома, она глубоко вдохнула воздуха и вошла. Мать она застала у печи, та доставала чугунок с кашей.
– Мамочка,– начала было Тома, но Степанида увидев красные глаза дочери и так все поняла.
Она вытерла руки об фартук и произнесла:
– Ну, пусть поступает, как знает. Не хозяева мы ей. Иди, Тома, руки мой, да поешь. А слезы вытри, нечего об этом реветь. Успеешь нареветься в этой жизни.
– А Ванечка, мамочка, болеет. Сама видела.
Степанида сняла фартук, подошла к дочери и, положив ладонь на плечо, сказала:
– Сама я к ней схожу, нечего было тебя к ней гнать. Упрямая она как отец. Ты есть садись без меня.
Степанида вышла из дома, не глядя вокруг себя, она шла к дому Черновых. Узнать его можно было по покосившейся крыше и, сидящему около ограды на скамейке деда Егора. Он гладил козу по голове и щурился на яркое солнце, даже не сразу заметив Степаниду.
– Здравствуй, Егорша, как твое здоровье?– спокойно поздоровалась Степанида.
– Здравствую, Стеша. Ничего, жив еще. За дочкой пришла?– не отрываясь от козы, спросил он.
– За ней,– со вздохом ответила Степанида.
– Оно и верно,– он закрыл глаза и, как будто, заснул.
Степанида не дожидавшись продолжения разговора, вошла в избу. Её встретил приглушенный плач внука и голос качающей его на руках Глаши. Она краем глаза заметила мать и отвернулась. Баба Клаша встала с табурета и подошла к Степаниде:
– Оставлю я вас, только посуду мне не побейте.
Она поспешно вышла из избы, оставив мать с дочерью наедине. Какое-то время они обе молчали, пока Степанида не решила прервать эту тишину:
– Хватит тебе, Глаша, на меня злиться. Возвращайся домой. Обе мы друг другу лишнего наговорили. Чего уж, признаю, резкой я с тобой была. Да разве я со злости это? Ты и сама мать, должна понимать. Не знаю я как вас от беды отвадить, всё сами в пекло лезете. Хватит на меня зло держать, о сыне подумай.
– А ты на жалость не дави,– вдруг резко заговорила Глаша,– без тебя разберусь!
– Глаша, ну что же ты все злишься? Пойдем домой, Ванятку подлечим. Вместе всякую беду легче вынести. Видишь, сама я за тобой пришла.
– До этого Тамарку посылала. Думала, пойду с ней? Думала бесхребетная, как ты?
– Не наговори лишнего, дочка. Я к тебе с миром, а ты гонишь меня. Мать я тебе или соседка? Не буду я тебя к мужу гнать. Права ты, натерпелась. Сама это с ним решать будешь. Ты сейчас о детях подумай. Один на руках болеет, другие двое без матери плачут. Чего там свекровушка шепчет им про тебя, только одному богу известно. Не уж то сердце не разрывается? Ведь в семье легче эти тягости перенести. Помогу я, чем смогу. Не одна ты еще на белом свете. А о бабе Клаше с Егором подумала? Им и так нелегко в нужде жить, а тут ты еще с ребенком. Знаю я, сердце у них доброе, поэтому и приютили. Спасибо им за это. Только, дочка, и честь знать надо. Пора возвращаться. Не срами ты меня, ради бога прошу.
Глаша усмехнулась:
– Все на совесть мою давишь? Не пройдет!– перешла она на крик – Уходи, мама! Оставьте все меня в покое!
Степанида так и стояла, растерявшись, у порога. Она смотрела то на дочь, то на внука:
– Думаешь, одна ты в этой жизни натерпелась? – спокойно спросила она – Меня жизнь тоже не баловала. На вас, на детей, только надежда была, что жить будете лучше,– Степанида сделала шаг вперед к дочери и продолжила,– думала, что хоть вы по-человечески поживете. Я тебя замуж за Ефима не гнала. Сама ты тогда дала согласие. Решать ваш семейный вопрос все равно придется, а уж в какую сторону, сами решайте. Я в это лезть не буду.
Она медленно подошла к дочери и положила свою ладонь ей на плечо:
– Поблагодари бабу Клашу и Егора, да домой пошли.
Глаша стояла с сыном ни живая, ни мертвая, в глазах застыло отчаяние и досада. Видимо она все-таки смирилась, что ей придется покинуть уютную избу Черновых, в которой был какой-то свой особенный мир. Но внутри все еще тлел маленький костер борьбы и Глафира, смотря прямо в глаза матери, ответила:
– Домой к вам не вернусь. Не первый день вас знаю. Сейчас уговоришь, а чуть я на порог явлюсь, запрешь. Было уже, знаю. Не девочка давно, за себя решать не дам.
Степанида убрала ладонь с её плеча и погладила внука по мокрому от пота лбу. Он однозначно горел и сердце от жалости как будто, стиснули в кулак, что дышать стало трудно:
– Да что же ты делаешь, дочка!? Он же горит!
Глашу, как будто, обухом стукнули, она завыла, ослабила хватку и Степанида смогла забрать внука к себе на руки. Глаша рухнула на пол, без слезно воя и молотя кулаками пол. Степаниду охватил страх, но опустить внука из рук не могла, а только с ужасом наблюдала эту сцену. Наконец то, успокоившись, Глафира встала на ноги, забрала Ваню к себе и молча пошла к выходу. Степанида, так же молча, вышла за ней, попрощавшись на крыльце с обескураженной четой Черновых. Они шли так до самого дома, где Глаша вошла, не видя перед собой ничего и никого, положила на кровать Ванятку и сев рядом с ним, медленно сняла с головы платок.
Степанида забрала у неё платок из рук и обратилась к стоящей, как столб, Тамаре:
– Томка, беги скорей за Малушей. Скажи, ребенок горит!
Тамара как ужаленная выбежала из дома, чуть не столкнувшись на крыльце с Фросей. Та ошеломленная вошла в избу.
– А нас вот раньше закрыли, обрабатывают столовую от какой-то заразы.
Фрося медленно подошла к кровати, посмотрела на Ваню и сестру, потом повернулась к матери:
– Уж не тиф ли?
– Бог с тобой, Фроська! Чего мелеш!– крикнула на неё мать – Иди лучше воды натаскай и полотенце приготовь!
К вечеру Ваню стало рвать, что никакие Малушины отвары и приговоры не помогали. На дом как будто опустилась беспросветная тьма. Все метались по избе, кто-то молился, кто-то плакал. Всю ночь никто не спал, даже Илюша бросил свои дела, помогал, чем мог, успокаивал мать и сестру. К утру Ваню немного отпустило, и он, без сил, заснул, весь бледный и липкий от пота. Горбатая Малуша перекрестилась, встала с трудом с колен и медленно пошла к выходу:
– Если этот день переживет – выживет, а нет, то богу значит он нужнее.
С этими словами она вышла, оставив домочадцев одних в тишине и полной растерянности. Первой падала голос Фрося:
– На работу мне надо. Не приду, то уволят.
– Иди, доченька, иди,– тихо ей ответила Степанида,– теперь только на бога и надеяться.
– К доктору бы надо,– отозвался сонный Илюша, сидя на сундуке,– они сейчас все лечат.
– Ах, родимый, да разве до нас им сейчас?– с сожалением в голосе ответила ему мать,– сколько раненых везут теперь к нам, сама видела. А сколько больных. Да и платить нам нечем, Илюш.
– Я за Серафимом Леонидовичем схожу! – он резко встал с сундука,– он наш, он коммунист! Он поможет!
Степанида серьезно посмотрела на сына, хотела было ему что-то сказать, но тот быстро надел на голову фуражку, и выбежал из дома, не дождавшись возражений. Докторов Степанида не любила, считала их разносчиками заразы и богохульства над телом и душой. Особенно её пугали рассказы, о вскрытие плоти и хирургического вмешательства. А уж эти рассказы о принятие родов мужчинами-докторами! Её всю передернуло, но жизнь внука была сейчас дороже всех предрассудков.
Через час Илья пришел с седым высоким мужчиной в коричневой шляпе и старым саквояжем в руках. Мужчина поприветствовал всех в доме, медленно снял своё старое пальто и прошел к кровати, где лежал Ваня. Внимательно осмотрел его, пощупал, а потом, повернувшись лицом к присутствующим, заключил:
– Это не тиф.
Степанида сразу перекрестилась, а Глаша облегченно выдохнула.
– Но состояние его не менее опасно, – добавил Серафим Леонидович и стал, что-то искать в своем старом облезлом саквояже.
Видимо найдя, он, с неприкрытым восторгом, достал какой-то маленький бумажный сверток:
– Вот! Осталось еще! Этот порошок надо развести в воде комнатной температуры,– он внимательно посмотрел на присутствующих и не найдя понимания в их глазах, продолжил – Не холодной, не в горячей, а в теплой, понимаете? Вот как сейчас у вас дома. Порошка мало, поэтому отдаю весь. Разведите его, прям сейчас! Внимание! Вода должна быть кипяченной! Вам все понятно?
Глаша бросилась к ковшу и Серафим Леонидович добавил:
– Половину этого ковша залейте водой, разведите туда порошка и каждые десять минут давайте по ложке ребенку. Все сразу не давать! Вам все понятно?
Глаша закивала головой, а Степанида все-таки решилась спросить:
– А порошок то от чего? Поможет?
– Будете тянуть, ничего потом не поможет. Детские болезни еще мало изучены!– с этими словами он откланялся и пошел к выходу.
Илюша помог ему одеться и проводил его за ворота, где еще с минуту он его благодарил.
Глава 5.
В этом году Пасха совпала с днем Интернационала, и ярые коммунисты, шествовавшие по главной улице на демонстрации, сталкивались с людьми, шедшие с церкви, где освещали пасхи и куличи. Друг друга они встречали ненавистными взглядами и кидали друг другу проклятия.
Илюша был тоже против празднования Пасхи и даже разругался с домашними в пух и прах. Степанида же с дочерьми все-таки сходила в церковь, а идя обратно домой с корзинками освещенных куличей и пасхи, старалась не смотреть на молодежь, которая разгуливала в красных косынках, выкрикивала лозунги и пела интернационал. Маленький Ваня спокойно сидел в этот день на руках у своей матери, окончательно выздоровевший после болезни. Да и сама Глаша была невозмутима, как будто ничего в её жизни не случилось. Уже дойдя до своей улицы и завернув к своему дому, женщины заметили, что кто-то стоит у их ворот.
Мужчина переминался с ноги на ногу и нервно курил. Глаша пригляделась и ахнула:
– Это Ефим!
Она остановилась, не смея сделать шаг. Ваня в её руках завозился, почувствовав настроение матери, стал сползать на траву. Его подхватила Степанида, не дав ему упасть, поставила его на ноги.
– Пойдем, Глаша,– сказала она,– нечего тут тянуть.
Они медленно подошли к дому, где их ждал Ефим. Одет он был по праздничному, волосы причесаны, со всеми поздоровался и не отрываясь смотрел на Глашу.
– К тебе я, жена. Без тебя и сына жизни нет,– начал он, подходя к Глаше,– все думал над своим поступком. Не прав я. Не прав. Дома и дети тебя заждались, все плачут, все спрашивают, где их мама. А я уж вру, только бы не ревели, слезы их как по сердцу ножом.
– Красиво говоришь,– спокойно ответила Глаша и взглядом дала понять присутствующим, чтобы их оставили вдвоем,– Красиво. Давеча мать моя к свекрови моей ходила, на внуков посмотреть, да гостинцев передать, а она не пустила. Еще и прокляла.
– Глаш, да разве тебе с матерью моей жить? Со мной ты жить будешь! И дети тебя ждут!
– А Ваню ты ждешь? Ты хоть посмотрел бы на него. Вылитый ты. Да как я могу после всего тебя простить? Ты ведь мою душу дотла сжег!
Ефим взял здоровой рукой её руку, и та не успев выхватить, уставилась на него бешеными глазами:
– В милицию пойду! Детей у тебя своих заберу!– закричала она.
– Окстись, Глаша, ведь я муж твой! За тобой и сыном я пришел! Жизнь заново начнем! Не будет моя мать мной верховодить, только тебя слушать буду! Глаша, Глашенька!
Он прижал её к себе к груди, а она, как птичка, трепыхалась, пытаясь вырваться из его единственной сильной руки. Потом, все-таки присмирев, она обмякла, а он продолжил:
– На работу в артель меня берут, буду зарабатывать. С голоду не помрем. Там глядишь и свою работу бросишь, будешь как раньше только домом и детьми заниматься. Глашенька, да я без тебя совсем пропаду. Не могу я без тебя жить. Хоть в петлю лезь! Да кому я кроме тебя калека нужен! Ведь только ты меня и понимаешь!
Не выдержала напора Глаша. Вошла в дом и стал собирать свои вещи, собрала сына и, попрощавшись со всеми домочадцами, ушла обратно жить к Ефиму.
Степанида и не знала радоваться этому или нет. В глазах дочери была лишь грусть, за то перед людьми теперь не стыдно.
– Ну, славу богу, разрешилось,– произнесла она вслух и перекрестилась.
Вскоре из дому ушла на демонстрацию Ефросинья, дождавшись пока за ней зайдет Алексей, а после с подружками убежала на улицу и Тамара. В избе Степанида осталась одна, сидя на табурете, сделанным её мужем. Она смотрела на висевший единственный портрет старшего сына и думала, почему они не сделали семейную карточку. Висела бы там же, она бы разглядывала, может и плакала, а может и смеялась. Но нет, на стене висела единственная карточка с сыном, которую он сделал в 1915 году, за год до трагедии. По правде говоря, делал он эту карточку для Анфисы Терехиной, своей первой и последней любви. Эта девушка была взбалмошной, была единственным залюбленным ребенком в семье начальника цеха на фабрике, где он работал. Она крутила им как хотела, просила совершать для неё подвиги и, возможно, его последний поступок, как раз был для неё, чтобы доказать, какой он смелый и отчаянный. Карточку девушка вернула после смерти Вани, а Захар повесил её на стену, прямо напротив стола, чтобы всегда его можно было видеть.
Степанида вздохнула, посмотрела на стол, где горела свеча, а рядом стояло блюдо с румяными боками куличами, белой пасхой и крашенные в луковой чешуе печеные яйца. Она сидела в невыносимой тишине, и только фитилек в лампадке, что стояла у икон, таинственно треща, освещала лики святых. Степанида вспомнила детство, когда перед самым праздником все наполнялось мистической атмосферой в доме. Все чистили, скоблили, мыли, белили, а уже накануне начинали печь куличи, делать пасху, красить яйца. Им, детям, было интересно помогать в подготовке к празднику взрослым, их даже не надо было заставлять что-то делать, все воспринималось как некая игра, за которую им должны будут дать подарки. В этот день они не могли уснуть, все мечтали, какие им дадут угощения в праздник, а утром, еще сонные, шли с матерью в церковь освещать еще теплые куличи. Иногда в день пасхи им дарили не только яйца, но и имбирные пряники, баранки. Как они потом любили семьей, пока была жива мама, собраться за столом, пить чай из самовара, да еще каждый из своего блюдечка, прикусывая баранками или постным сахаром. Этот набор блюдечек потом увезла с собой мачеха и больше его никогда никто не видел. Как же было хорошо, пока была жива мама. Степанида с сожалением вздохнула, подошла к буфету и достала оттуда кагор. Потом достала рюмочку и налила себе до краев, не разбавляя, как прежде.
Выпив залпом, Степанида сморщилась и поставила кагор и рюмочку обратно в буфет. Сев обратно на табурет, она снова уставилась на портрет сына, пока её не отвлек неожиданный шум в сенях.
Степанида встала и только успев дойти до дверей, как та сама открылась и на пороге она увидели старую Пелагею, крестную Захара. Та стояла, упершись на трость, дрожа от старости, но, как и прежде она смотрела ясными хитрыми, как у лисы, глазами. Пелагее пошел уже седьмой десяток. Она без посторонней помощи вошла в дом, встала напротив Степаниды:
– Со светлым праздником, Степанида, Христос Воскресе! – Проскрипел её голос, как несмазанное колесо телеги.
– Воистину воскресе,– ответила Степанида и, как в ни чем не бывало, по обычаю троекратно поцеловались,– Проходи, Пелагея, присаживайся за стол.
Пелагея, не возражая, пошла мимо печки к столу, но вдруг остановилась:
– А печку к празднику то плохо побелили.
Степанида покраснела от стыда и стала оправдываться:
– Уж и, правда плохо, совсем здоровья нет, и дочери от рук отбились.
Пелагея все-таки прошла к столу, перекрестилась и села на табурет, поставив трость возле себя. Степанида поспешила достать из буфета кагор и рюмки, поставила на стол. Перед тем как выпить, Пелагея произнесла:
– Со светлым праздником!– и выпив залпом, продолжила,– Сон мне был, Степанида. Захара, крестника видела. Стоял он в вашем доме, вот у этого стола, обнимал меня как раньше, все говорил, что придет скоро. Уж больно яркий сон, да и в праздник. Вещий, должно быть. Ты, Степанида, так и не получала от него письма?
Степанида прикрыла рот рукой, по коже побежали мурашки:
– Нет, Пелагея, не получала. Не уж то придет…?
– А ты, небось, уже и не ждешь?
Степанида хотела было возразить, но в горле как будто пересохло, а из открытого рта так и не было произнесено ни слова.
– Ждешь, стало быть,– ответила за неё Пелагея, – Верно, ждать надо. Ну, налей еще, хоть глотку обмочить.
Пелагея не любила Степаниду, но сейчас ей стало, вдруг, жаль эту женщину, которая сидела рядом. Крестника Захара она при случае всегда баловала, любила его и не была довольна решением его отца женить на бедной крестьянской девушке без приданного. Степаниду она считала бесхарактерной и слишком мягкой, не подходящей для импульсивного Захара. Но вот прошло время, и она видела, что именно на этой женщине держался в его отсутствие дом и хозяйство.
Они обе выпили еще по рюмочке кагора и Пелагея, с трудом встав с табурета, произнесла:
– Как придет Захар, непременно за мной пошли. Увидеть его мне надо. Недолго мне осталось век коротать. Слышишь?
– Все так и сделаю,– тихо ответила Степанида.
– Ну, смотри, жди.
С этими словами Пелагея пошла, упираясь на трость к выходу, а проводив её, Степанида рванулась к образам, рухнув на колени, стала молиться.
В стране в это время все менялось, с марта месяца был объявлен НЭП и потихоньку стали открываться, закрытые до этого лавки, заполняться товарами базары. Даже ранее закрытая лавка Долгова убрала доски с окон и открыла свои двери, продавая пока небольшой ассортимент мануфактуры. Но, к сожалению, голод в городах, деревнях и селах никуда не делся, и если выйти на край города, где раскинулись луга и поля, то можно было увидеть толпы человеческих тел от самых маленьких до самых старых, пасущихся, как животные, одновременно собирающих зеленую траву и поедающих на месте сочные молодые стебли. Многие так и оставались там навсегда, не сумевшие вовремя остановиться.
И все-таки жизнь вокруг продолжалась. В конце первой майской недели в избе-читальне гремела свадьба Кручиных. Гостей собралось немного, от силы человек двадцать, но справляли весело с гитарой и шутками. Стол был скромный, но за то была водка и, откуда-то взявшейся, две бутылки вина. Радостная от счастья Мариша подавала на стол рыбный пирог, вареную картошку, кровяную колбасу и свежие пучки зеленого лука. Никто из гостей не осуждал не богатого стола, зная, что сейчас не то время, когда можно было пировать как прежде. Пока еще нельзя было так легко достать продукты.
Помогала Марише накрывать стол и готовить Фрося. В этот день она одела новый подаренный Алексеем, платок красный с маками и алые бусы, взятые на день у Маши Куленковой. В душе она завидовала подруге, что та смогла добиться своего, выйти замуж против воли своих родителей. Никого из присутствующих тут не смущало, что новобрачные только расписались, а не венчались в церкви, как это было принято много веков в многострадальной стране. Все на празднике были молодые и желали построить новый мир, новую страну, где их, как они полагали, ждало лучшее и светлое будущее.
Гремела посуда, звенели рюмки, звучали молодые голоса и веселые песни. Пару раз Фрося с Маришей выходили танцевать посреди комнаты, повизгивая и раскидывая руками. Алексей же сидел, как истукан, часто, сжимая руку Фроси, когда та, натанцевавшись, садилась рядом. Себя он чувствовал неловко в этой компании, поэтому он больше молчал, либо закусывал. Их разговоры были ему не понятны, а новомодные песни его совсем не забавляли.
Кто-то неожиданно передал ему гитару и крикнул:
– Спой нам, Алёша, спой!
– Я не пою,– ответил спокойно Алексей и стал передавать гитару обратно.
– Как же так? У тебя ведь цыганская кровь, а значит умеешь!
– Я на половину цыган и петь не умею,– недовольно пробурчал он.
Заметив настроение Лёши, за него сразу заступилась Фрося:
– Ну что вы пристали к человеку! Отец у него русский! Всю жизнь на заводе пахал! Лучше давайте за молодых выпьем! Горько! Горько!
Никогда еще Фрося не пила больше одной глотка алкоголя, а тут и рюмочки и стаканы. Она уже не могла прямо ходить, вставала из-за стола, пошатываясь, роняя часто посуду. Не нравилось это Алексею, и он все пытался уговорить её, чтобы проводить домой, но та отнекивалась и продолжала праздновать свадьбу подруги. В конце концов, ему это надоело, он взял её за руку и потащил к выходу, а Фрося упираясь, села на пол и зарыдала пьяными слезами. Было неловко и стыдно, но Алексей терпел, не давал волю эмоциям. Недолго длилось это представление, вскоре её замутило, что пришлось выбегать на улицу, а Лёша, придерживая её косу, успокаивал и терпеливо ждал, пока той станет лучше.
До дома дошли они уже ближе к рассвету. Как бы тихо они не пытались войти в сени, Степанида, еще не ложась, встала с кровати одетая и, встав у порога, открыла сама им дверь. Увидев дочь пьяной и растрепанной, не державшейся на своих ногах, она отчаянно вздохнула:
– Пришла. И ты ей позволил так напиться?– обратилась она к Алексею – Веди её на лавку, все равно выворачивать будет.
– Простите, Степанида Афанасьена, не углядел,– смущенно оправдался Алексей и повел Фросю на лавку.
Как только он её положил, хотел было сразу уйти, но ему перегородила дорогу Степанида, сложив руки на груди:
– Узнаю, что нагрешили, жениться заставлю, а откажешься, в суд пойду.
Алексей невинно поморгал зелеными глазами, кивнул и, молча, вышел из дома. Степанида посмотрела на дочь, сердце сжалось её, но откуда-то изнутри поднялась волной злость и она схватила со стены, висящую на гвозде старый мужнин ремень и стала хлыстать им дочь. Та от неожиданности хотела было встать, да ноги не удержали, упала она на колени, закрывая лицо руками. Степанида била и обзывала её, на чем только свет стоит и, устав, кинула ремень в угол, села на табурет и зарыдала:
– Дожила! Дочь пьяную домой приводят! Горе то, какое! Да за что мне это!? За что, я тебя спрашиваю? Как же тебе не стыдно, доченька? Как мне соседям в глаза теперь смотреть? Ой, горе…
На крик из соседней комнаты сбежались Тамара и Илья. Они еще сонные, смотрели то на сестру, то на мать. Наконец-то, Тамара подошла к матери и, гладя её по волосам, пыталась её успокоить. Илье же было стыдно за сестру и, переступая через отвращение, стал пытаться поднять с пола Фросю, но та все время падала вместе с ним и ревела без остановки пьяными слезами, при этом бормоча что-то невнятное. Понадобилось еще около часа, чтобы поднять Фросю и уложить её на кровать.
Только после этого Степанида утерла горькие материнские слезы и, собрав все свои силы, ушла с детьми на огород. В эти теплые весенние дни нельзя было терять времени, чтобы успеть высадить: картошку, капусту, брюкву, а так же любимый Илюшей, горох. Уже на следующей неделе пойдет очередь свеклы и моркови, а за ними посадят редьку, огурцы и репу. Теперь работы будет много и, до самого сбора урожая осенью, на отдых можно было не рассчитывать. И это еще не говоря о заготовке сена для коровы. Сколько не вздыхай, сколько не пеняй на судьбу, а работать нужно, иначе ждет их неминуемая голодная смерть, как многих, кого нашли после сошедшего снега ранней весной.
Уже после полудня Степанида с детьми вошли в избу передохнуть и отобедать холодной картошкой из печи. Фрося еще спала и мать, недовольная таким положением дел, взяла ведро с только что принесенной с колодца Ильей, водой, и со всей дури выплеснула прямо на спящую дочь. От неожиданного ледяного душа Ефросинья вскочила вся мокрая с постели, расставив руки в сторону, она непонимающе смотрела вокруг себя.
Степанида горько усмехнулась и пошла к печке, где стоял с ночи приготовленный чугунок печеной картошки. Тамара и Илья, став свидетелями этой сцены, так и стояли на своих местах, ошеломленные поступком матери. Первым пришел в себя Илья, который как ни в чем не бывало, подошел к рукомойнику и стал усердно отмывать грязные от земли, руки. Фрося непонимающе смотрела на Тамару, но та, очнувшись, тоже промолчала и на пару с братом, стала умываться.
– Очнулась, бесстыдница?– совершенно спокойно спросила Степанида дочь.– Пока ты дрыхла, мы в огороде пахали, спины надрывали. Не стыдно?
Фрося промолчала, её еще мутило, сильно болела голова и тело, но мать, как будто не замечая её состояния, продолжила:
– Ты посмотри на себя то, нравиться тебе твое отражение?– она кивнула в сторону комода, где стояло маленькое зеркальце.– Ты посмотри, не стесняйся. Опозорилась. Соседка сегодня насмехалась над нами. Стояла назло около нашего забора и смеялась. Тебя же видели, Фроська! Да еще и не одну! Позор, какой! Да как нам еще ворота дегтем не намазали!