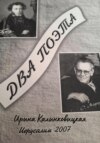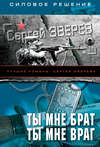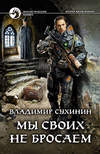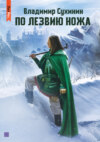Читать книгу: «Два поэта», страница 9
"Мой слух об эту пору пропускает
не музыку еще, уже не шум…"
В стихотворении Маршака читаем:
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден…
У Бродского в письме к Брежневу читаем: "Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти… Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающие. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять"53.
В 1947 году Маршак переводит пятый сонет Шекспира:
Украдкой время с тонким мастерством
Волшебный праздник создает для глаз.
И в то же время в беге круговом
Уносит все, что радовало нас.
Часов и дней безудержный поток
Уводит лето в сумрак зимних дней,
Где нет листвы, застыл в деревьях сок,
Земля мертва и белый плащ на ней.
И только аромат цветущих роз —
Летучий пленник, запертый в стекле, —
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле.
Свой прежний блеск утратили цветы,
Но сохранили душу красоты.
А вот подстрочный перевод сонета, выполненный А. Шаракшанэ:
Те часы, которые своей тонкой работой создали
прелестный образ, на котором останавливаются все взгляды,
поведут себя как тираны по отношению к нему же
и лишат красоты то, что все превосходит красотой,
поскольку неутомимое время ведет лето
к отвратительной зиме и там губит его:
Соки будут скованы морозом, а пышная листва исчезнет,
красота будет занесена снегом и всюду будет голо.
Тогда, если эссенция лета не была сохранена,
жидким узником, заточенным в стеклянных стенах,
вместе с красотой будет утрачена ее животворная сила,
не станет ни красоты, ни памяти о том, какова она была.
Но если из цветов выделена эссенция, то, хотя их постигает зима,
они теряют только свой вид, а их сладостная сущность по-прежнему живет.
Мы видим, что перевод близок к оригиналу, но вместе с тем индивидуальность переводчика ощущается в каждом обороте, в каждом слове (что является одновременно и достоинством, и недостатком перевода). Этим переводом Маршак как бы обозначил одну из важнейших тем своей лирики в последующие годы: "Украдкой время с тонким мастерством / Волшебный праздник создает для глаз. / И в то же время в беге круговом / Уносит все, что радовало нас. / Часов и дней безудержный поток…
Этот сонет о временном и вечном ведет к размышлениям о времени и вечности. М. Л. Гаспаров писал: "Время и вечность в стихах Маршака всегда выступают парою. Он не противопоставляет их, разница между временем и вечностью здесь не качественная, а количественная, как между секундой и сутками".
Последнюю фразу, пожалуй, можно оспорить. Поэта интересует скорее не разница между временем и вечностью, а соотношение между цикличностью, повторяемостью, круговоротом минут, часов, лет веков, что собственно и есть время, и поступательным, невозвратимым, бесконечным движением времени, то есть вечностью. Историк Лев Гумилев назовет это впоследствии циклическим и линейным отсчетом времени.
Отзвуки пятого сонета Шекспира слышатся не только у Маршака, но и у Пастернака.
Маршак и Пастернак – поэты одной эпохи. В двадцатые-сороковые годы отношения между ними были дружескими (См. главу "Шекспиром завороженные. Маршак и Пастернак" в кн. Матвея Гейзера "Маршак".) В 1947 году в беседе с К. И. и Л. К. Чуковскими Пастернак дал восторженную оценку маршаковским переводам: "Я прочел Маршака… То есть, я его, конечно, и раньше читал и знал, но мало: я знал только, что он хорошо переводит. А теперь прочел и убит. Шут в «Лире» и сонеты… Сколько для этого нужно было благородства и, главное, честности. Человек выбрал себе участок, на котором он полный хозяин. Какая находчивость рифмовки, какие эпитеты…"54.
В своих воспоминаниях Валентин Берестов писал: "Вот несколько категорий, которыми Маршак постоянно пользовался, когда говорил о поэзии, о мастерстве, о талантливых и умелых людях, чем бы они ни занимались: 1) истовость; 2) толковость; 3) звонкость.
Истовость он как бы противопоставлял, с одной стороны, расчетливости и цинизму или, скажем, пустозвонству, а с другой – нерассуждающему фанатизму.
Толковость. Маршак употреблял это слово в применении к самым неожиданным вещам – от стихотворного объяснения в любви до детской считалки. Толковость, противостоящая "бестолковому неорганизованному, несобранному напору чувств, идей, мыслей, образов, слов, ритмов.
Звонкость. Качество довольно редкое, особенно в литературе… Звонкость – это Пушкин. Звонкость – это сила, мощь в соединении с изяществом, легкостью, непринужденностью, веселостью, простодушием…"
Если эти маршаковские определения еще применимы к "талантливым и умелым людям, чем бы они ни занимались", то к поэзии, нерассуждающей, иррациональной, разнообразной во всех своих проявлениях, они имеют весьма отдаленное отношение. Под эти определения не подходят ни Пушкин, ни Блок, ни Белый, ни Мандельштам… Поэзия Пастернака им просто противопоставлена:
вместо истовости – неистовость, лавина, "световой ливень" (М. Цветаева);
вместо «толковости» – сплошная бестолковость, тот самый "бестолковый, неорганизованный, несобранный напор чувств, идей, мыслей, образов, слов, ритмов"…
вместо звонкости – пастернаковская гулкость, как эхо в храме.
Как поэты, Пастернак и Маршак были антиподами.
Маршак устремлен вглубь, с его желанием, с одной стороны, "понять, что внутри", а с другой, попытаться скрыть, спрятать при помощи потайного фонаря самое любимое, важное, болезненное.
Усложненность, зашифрованность ранней лирики Пастернака – это, скорее, образ мыслей, видения, а не стремление к тайнописи. Если Маршак устремлен вглубь, то Пастернак – ввысь. Ему «оттуда» виднее.
Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.
Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочежины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влет.
За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.
Маршак, скорее, тип ученого, с его «четкостью» и «толковостью», склонностью к анализу. Бормочут листья в полусне. / Но это мнимая дремота. / В глуши, в покое, в тишине / Идет незримая работа.
В книге Л. К. Чуковской "В лаборатории редактора" приводится высказывание Маршака: "Я живу для того, чтобы книга о науке стала поэтической, как стихотворение, а поэзия точной, как наука"55.
Пастернак – тип поэта, гениального ребенка с его детской бестактностью: "Я комнату брата займу…"
С его смешными нелепостями: "И сразу же буду слезами увлажен /И вымокну раньше, чем выплачусь я…"
С его забавной бессмысленностью: "Но ты прекрасна без извилин…"
Такое у Маршака просто невозможно, а стихи Пастернака ничуть от этого не страдают, скорее выигрывают.
Но антиподы в чем-то очень близки. Чтобы отталкиваться, должны быть точки соприкосновения. И они у двух поэтов, безусловно, существовали. Вспомним перекличку двух поэтов на протяжении десятилетий, связанную с деревьями, глядящимися в зеркало.
Вполне возможно, что такой же точкой соприкосновения и одновременно отталкивания стал пятый сонет Шекспира.
Четыре последних по времени стихотворения Пастернака датированы январем 1959 года. Вот одно из них:
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ
Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.
Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.
Сколько цепей ни примеривай,
Как ни возись с туалетом,
Все еще кажется дерево
Голым и полуодетым.
Вот, трубочиста замаранней,
Взбив свои волосы клубом,
Елка напыжилась барыней
В нескольких юбках раструбом.
Лица становятся каменней,
Дрожь пробегает по свечкам
Струйки зажженного пламени
Губы сжимают сердечком.
– – – – —
Ночь до рассвета просижена.
Весь содрогаясь от храпа,
Дом, точно утлая хижина,
Хлопает дверцею шкапа.
Новые сумерки следуют,
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают
Заночевавшие гости.
Солнце садится и пьяницей
Издали, с целью прозрачной,
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.
Вот оно ткнулось, уродина,
В снег образиною пухлой,
Цвета наливки смородинной,
Село, истлело, потухло.
Пастернак как будто возвращается на сорок лет назад, к своим ранним стихотворениям из сборника "Сестра моя – жизнь".
Их можно поставить в ряд:
1) "Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла…" —
"Зеркало" 1919
2) "Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо…" —
"Девочка" 1919
3) "Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала" —
"Будущего недостаточно…" январь 1959 г.
Тем самым поэт замыкает круг отведенного ему земного времени и вырывается наконец из его плена.
Последнее стихотворение Пастернака "Единственные дни" все о том же: о повторяемости, цикличности и вечном обновлении. Точнее, оно – ни о чем, Но в нем заключены и природа, и время, и вечность, и свет, и всепрощение, и любовь.
Анна Ахматова очень точно заметила:
"Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят и губы
Улыбаются другой улыбкой…"
Можно сказать, что когда умирает поэт, изменяются его стихи, особенно последние. "Стихи живые" действительно изменчивы и подвижны, и их восприятие зависит от многих обстоятельств. Поэтому "Единственные дни" воспринимаются не просто как одно из стихотворений Пастернака, а как его последние прощальные стихи. Но если даже мы попытаемся отвлечься от этого знания, мы все равно почувствуем светлую и пронзительную печаль, и любовь, и восторг, и стремление замедлить ход часов и остановить время, и ему это удается, ведь "время боготворит язык и прощает каждого, кем он жив".
И полу-сон-ным стрелкам ле-ень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день…
"Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо…" – напишет ровно через десять лет, в январе 1969 года Иосиф Бродский. И это уже другой взгляд на время – иронично-рациональный взгляд поэта, мысленно пережившего и XIX, и XX век, взгляд почти из XXI века.
Но для Пастернака – остановленное мгновенье и прекрасно, и неповторимо. И только вырвавшись из временного плена навстречу вечности, и только прощаясь и прощая, можно было написать такие строки:
ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ
На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.
И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.
Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет,
И солнце греется на льдине.
И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
И тогда же, в 1959 году, "как по уговору" Маршак пишет стихотворение "Порой часы обманывают нас…"
В нем нет пронзительного прощания "последнего стихотворения", но есть мудрость человека, проживающего на этой земле долгую, трагическую, счастливую и достойную жизнь.
Порой часы обманывают нас,
Чтоб нам жилось на свете безмятежней.
Они опять покажут тот же час,
И верится, что час вернулся прежний.
Обманчив дней и лет круговорот:
Опять приходит тот же день недели,
И тот же месяц снова настает —
Как будто он вернулся в самом деле.
Известно нам, что час невозвратим,
Что нет ни дням, ни месяцам возврата.
Но круг календаря и циферблата
Мешает нам понять, что мы летим.
Разминувшись во времени, они, быть может, встретились в вечности.
Заключение
В конце жизни Маршак написал горькие строки:
Мы принимаем все, что получаем,
За медную монету, а потом —
Порою поздно – пробу различаем
На ободке чеканно-золотом.
Как лирический поэт он ушел недооцененным. А это очень горько, очень больно, недополучить при жизни. Поэт предчувствовал, что так будет и после смерти. Впрочем, это, к сожалению, судьба многих поэтов.
Вспоминает драматург Леонид Зорин:
"Сохранились впечатления об очень глубоком, очень страстном, непосредственном, вспыльчивом и печальном человеке…
Удача Маршака в том, что он великолепно реализовался (как детский поэт и переводчик – И. К.)… Драма его была в том, что он недостаточно реализовался. Мы его знаем меньше как очень большого лирического поэта. И я думаю, что это была его печаль"56.
Правда, сам Маршак считал, что переоценка значимости еще хуже:
Ты старомоден. Вот расплата
За то, что в моде был когда-то.
Лучше забвение и умолчание, чем презрение и разочарование. В первом случае остается надежда.
Лирика Маршака – это "дом с закрытыми ставнями…" Мимо него на страшной скорости проносятся автомобили. Над ним со страшным гулом взлетают самолеты. Он затерялся среди роскошных вилл и современных небоскребов.
Сверкают огни, рвется музыка…
Но стоит подойти к этому дому поближе, прислушаться к тишине, распахнуть ставни… и тишина наполнится детским смехом, и зашумит теплый летний дождь, и загремит веселый гром, и из дома выбегут дети, и начнут ловить руками крупные капли дождя…
И может быть, "круг календаря и циферблата" остановит мир на краю пропасти…
Библиография
1. Ахматова А, Сочинения в двух томах. Том первый. – М.: "Художественная литература. – 1986.
2. Бродский А. И. Избранные стихотворения – М.: Панорама. – 1994.
3. Гаспаров М. Л. Маршак и время. – Литературная учеба, 1994. – N 6.
4. Гейзер М. Маршак. – М.: Молодая гвардия. – 2006.
5. Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. – М.: Молодая гвардия. – 2006.
6. Мандельштам О. Сочинения в двух томах. Том первый. – М.: Художественная литература. – 1990.
7. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах Том первый – М.: Художественная литература. – 1990.
8. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах. Том второй. – М.: Художественная литература. – 1969.
9. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах, том третий, Москва, "Художественная литература", 1969
10. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах. Том четвертый. – М.: Художественная литература. – 1969.
11. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах. Том пятый – М.: Художественная литература. – 1970.
12. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах. Том шестой. – М.: Художественная литература. – 1971.
13. Маршак С. Собрание сочинений в восьми томах, том седьмой – М.: Художественная литература. – 1971.
14. Маршак С. Стихотворения и поэмы в двух томах. Том первый. – Большая серия "Библиотеки поэта". – Л.: Советский писатель. – 1975.
15. Пастернак Б. Стихотворения и поэмы в двух томах. Том первый. – Большая серия "Библиотеки поэта". – Л.: Советский писатель. – 1990.
16. Пастернак Б. Стихотворения и поэмы в двух томах. Том второй. – Большая серия "Библиотеки поэта" – Л.: Советский писатель. – 1990.
17. Петровский Мирон. Книги нашего детства. – М.: Книга. – 1986.
18. Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (1996–2005). – СПб.: изд-во журнала «Звезда». – 2006.
19. Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. Том второй. – М.: Художественная литература. – 1959.
20. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л.: Наука. – 1974.
21. Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой, 1963–1966. – Том третий. – М.: Согласие. –1997.
22. Чуковская Л. В лаборатории редактора. – Архангельск: МТП "Правда Севера". – 2005.
23. Шекспир У. Сонеты. – СПб.: Азбука-классика. – 2004.
24. Я думал, чувствовал, я жил… Воспоминания о Маршаке. – М.: Советский писатель. – 1971.
25. Я думал, чувствовал, я жил… Воспоминания о Маршаке. – М.: Советский писатель. – 1988.