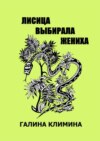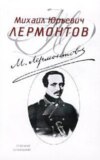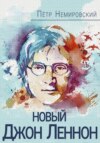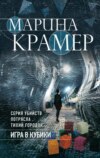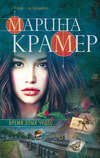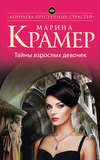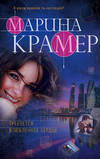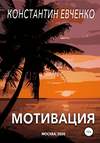Читать книгу: «Непридуманные школьные истории, или Детство в Советской стране», страница 3
История седьмая. Как мы с Галей «докатились»
Галя была удивительной. Из моих трех подруг, она притягивала меня больше всех. Наверно, потому что мы были очень разные. Я была тихой, послушной девочкой, больше всего на свете любящей читать, Галя – сорванец в юбке. Я боялась обидеть словом даже тех, кого следовало бы, Галя направо и налево раздавала очень обидные в то время прозвища – «редиска» и «шестерка».
Чего я только не делала, чтобы не быть в Галиных глазах «редиской»: таскалась по болотам в поисках вербы, сидела в проколе под железной дорогой, чтобы услышать, как «здоровски» над головой грохочет поезд, лазила по деревьям за фруктами. Во времена нашего детства, в Адлере сносили частные дома и строили пятиэтажки. Фруктовые деревья выкорчевывали не сразу, и Галя, непостижимым для меня образом, всегда знала, где можно полакомиться инжиром, хурмой, виноградом.
Я сказала, что мы совсем не были похожи, но это не совсем так. Было нечто, что нас сближало и отличало от двух других наших подруг Светы и Люды. Мы обе были растеряши. Поиски по всей школе то Галиной шапки, то моего шарфа очень нас сблизили. Тем более, потери происходили очень часто, и нагоняя дома мы боялись одинаково.
А один раз мы, как выразилась директор нашей школы «докатились», и потеряли портфели.
В тот год случилось страшное: в море упал самолет Ил-18, с пассажирами на борту. Вторым пилотом была женщина. Причины назывались разные: столкновение с птицей, пожар, непонятная вспышка рядом с самолетом. Помочь мы ничем не могли, но присутствовать на месте катастрофы были обязаны. Бежать быстро мешали портфели, только что закончились уроки.
Более находчивая Галя огляделась по сторонам и увидела в кустах почти сухую ливневую трубу. Мне это не очень понравилось, но я, как всегда, уступила.
Ничего особенного мы на море не увидели, толпились люди, работала какая-то техника. Выжить не смог никто.
Расстроенные мы вернулись к школе, где нас ждал удар: портфелей в трубе не было. Мы бегали по близлежащим улицам, заглядывали под каждый куст, расспрашивали прохожих. Время катастрофически приближалось к вечеру, и уже стало понятно, что ничего мы не найдем и надо бежать домой, пока не начали искать нас самих.
Дома про потерю портфеля я никому не сказала. К счастью, никому и в голову не пришло, что ребенок может прийти из школы без портфеля. .
Утром у двери класса нас поджидала классная руководительница: «Ну что, голубушки, идите к директору».
Эпопея с портфелями закончилась вполне благополучно. Наши портфели нашли прохожие. Прочитали на тетрадках номер школы и отнесли по месту назначения, к директору. Директор не стала сообщать родителям про наши шалости, только посмотрела на нас укоризненно и сказала: «Да уж! От девочек я такого не ожидала. Докатились!»
История восьмая. «Пятая подружка» или немного про любовь
Игорь был везде. Стоило нам собраться и пойти всем вместе на море, в библиотеку или в кино, как сразу же появлялся Игорь. Мы уже начали с подозрением коситься друг на друга: случайностью это быть не могло. Случайности так часто не происходят. Похоже в наши ряды затесался предатель.
Как-то мы сидели на лавочке и лениво обсуждали чем бы заняться. Тут появился Игорь и пригласил нас на речку:
– Я покажу вам настоящий индейский шалаш! – соблазнял он.
Мы задумались: я и Галя любили книги про индейцев, Люда любила приключения, Света любила нас всех. Решили идти.
На речке было здорово! Мзымта – горная река. Когда в горах тает снег, она течет сплошным, бурлящим потоком, сметая все на своем пути и унося в море. Летом и ранней осенью, до дождей, река мелеет и образует множество небольших островов, поросших кустарником. На одном из таких островков и находился шалаш Игоря.
Гордый, что нам понравился его шалаш, Игорь начал взахлеб рассказывать все, что он знал про индейцев, его любимыми героями были Зверобой и Чингачгук.
«А вы знаете, как легко узнать любую тайну?», – спросил он, потеряв осторожность. «Как?» – мы насторожились. «Нужно очень близко подойти к людям, разговаривающим о чем-то важном, и повернуться к ним спиной. Так можно стоять сколько угодно, никто и не подумает, что вы подслушиваете», – Игорь спохватился, что сказал лишнее, но было уже поздно. «Ах, вот откуда ты всегда знаешь куда мы идем?» – кричала Галя. А Света, вообще, начала молотить Игоря своими маленькими кулачками.
Полдня на речке пролетели очень быстро. К вечеру, помирившись, отправились домой. По пути встретили учительницу русского языка, дружно поздоровались и вспомнили, что на дом, среди прочего, задали длиннющее правило по русскому.
Дома я почувствовала страшную усталость. Съела все, что мне оставили на ужин, и моментально заснула.
Урок русского был первым. Выучить правило я не успела. Поэтому сидела как на иголках. Отвечать правило вызвали Люду, и класс облегченно вздохнул. Но Люда правила не знала. Учительница не разрешила ей сесть, а начала по очереди вызывать меня, Галю, Свету. Дошла очередь и до Игоря.
Мы стояли дружной группкой, под суровым взглядом учительницы. Но, если совсем честно, нам не было стыдно. Мы чувствовали себя дружным и сплоченным коллективом. Было приятно ловить на себе завистливые взгляды одноклассников, которые видели, что вызвали нас всех неспроста, но не могли понять почему. А двойки нам в тот раз не поставили, мы пообещали все выучить к следующему уроку.
С тех пор, некоторые одноклассники стали звать Игоря нашей пятой подружкой.
Но никакой «пятой подружкой» Игорь не был. Он просто был безнадежно влюблен в Люду.
Сначала наши мальчишки над этой его любовью насмехались, потом привыкли, и перестали обращать на нее внимание, потом стали слегка завидовать. Мы переходили из класса в класс, взрослели, менялись, а влюбленность Игоря все не заканчивалась. Она была такой долгой, что постепенно стала отличительной чертой нашего класса: такой любви не было ни у «Ашников», ни у «Бэшников». И мы все стали ею гордиться, как будто имели к этой любви какое-то отношение.
Иногда, когда Люда не видела, я ее потихоньку рассматривала. Мне было интересно, за что Игорь так долго ее любит. От всех других девчонок класса Люду отличали большие, темные ресницы. Они все росли в разные стороны, но не хаотично, а очень правильно: часть влево, часть в право. Ресницы пересекались, и над глазами получались не то звездочки, не то снежинки.
Удивительно, но любовь Игоря дожила до самого выпускного вечера. Я не спрашивала у Люды, почему эта любовь так и не стала взаимной. Бывают вещи, которые не спросишь даже у лучшей подруги. Мне часто казалось, что прелесть этой любви была в ее неразделенности. А уж, что до Игоря, так его эта влюбленность делала лучше и возвышеннее, это я знаю точно.
История девятая. Про войну
Учительница истории решила организовать в школе музей боевой славы. В кабинет истории привезли стеклянные витрины. Экспонаты для музея собирали не один год, ученики, учившиеся еще до нас. Кто-то приносил фотографии из домашнего архива, кто-то солдатские письма-треугольники и боевые награды: почти в каждой советской семье были участники Великой Отечественной войны.
Особой гордостью музея стала проржавевшая каска, найденная школьниками старших классов во время похода в горы. Школьный художник на одной из стен кабинета истории нарисовал схему Битвы за Кавказ. Это было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Наши детские сердца замирали, когда мы слушали, что благодаря Битве за Кавказ, наши войска смогли победить под Сталинградом. Взаимосвязь двух сражений, положила начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
На перемене Любовь Ананьевна, так звали учительницу истории, пригласила нас четверых в кабинет истории и предложила стать экскурсоводами в музее боевой Славы. Мы посовещались, немного поспорили и согласились. К тому времени мы уже многие дела делали только вместе. Учителя это знали.
Не помню, что досталось делать Гале, Люде и Свете, а мне поручили опросить адлерцев-Героев Советского Союза. Шестеро из них тогда еще были живы. Вот это-то задание я, как бы и провалила. Сейчас попытаюсь объяснить.
Все ветераны встретились со мною охотно. Кто-то принимал меня в домашней одежде, кто-то в праздничном мундире с медалями и орденами. Меня угощали чаем и предлагали холодный компот, было жарко. Люди, к которым я приходила были героями: летчики, разведчики, морские пехотинцы. Некоторые ушли на фронт добровольцами. Но все они о своем подвиге рассказывали не то чтобы одинаково, но каким-то газетным языком. Может быть, тогда было не принято рассказывать о житейских трудностях войны, может быть, им было неудобно хвастаться, а может, из-за многочисленных встреч с пионерами, у них уже сложился один и тот же рассказ, в котором они не хотели ничего менять. Или я не смогла их разговорить. Я не знаю. Я послушно записывала все что мне говорили, но каким-то детским чутьем понимала, что пишу не то и не так. Но исправить ничего не могла.
Тогда все они казались мне очень старыми. Годы спустя я часто думала: судьба мне подарила уникальную возможность узнать о войне от людей, которые сами принимали в ней участие. Им было всего-то по 50 – 60 лет, они все помнили, а я ничего не смогла услышать!
Только один раз, на мое надоедливое: «Ну вспомните, пожалуйста, что-нибудь интересное!» – один из ветеранов грустно сказал: «Ничего интересного на войне нет. Война – это очень страшно, девочка!»
Я была впечатлительным ребенком и запомнила его слова. До сих пор одним из лучших стихотворений о войне, я считаю коротенькое четверостишие Юлии Друниной:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
А людей, о подвиге которых мы рассказывали в своем школьном музее Боевой Славы, мне хочется вспомнить поименно:
Герой Советского Союза Войтенко Стефан Ефимович, 1909 – 1993;
Герой Советского Союза Гаранян Эрвант Георгиевич, 1903 – 1995;
Герой Советского Союза Дибров Кирилл Селиверстович, 1914 – 1980;
Герой Советского Союза Клименко Трофим Михайлович, 1919 – 2003;
Герой Советского Союза Мелетян Арутюн Рубенович, 1925 – 1997;
Герой Советского Союза Нагульян Мартирос Карапетович, 1920 – 1945;
Герой Советского Союза Худяков Иван Степанович, 1913 – 1990;
Полный кавалер ордена Славы Трубачев Михаил Григорьевич, 1920 – 2011.
Почти все они похоронены в Адлерском районе города Сочи.