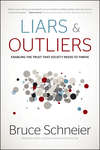Читать книгу: «Хочу отдохнуть от сатиры…», страница 7
Шрифт:
Воробьиная элегия
У крыльца воробьи с наслаждением
Кувыркаются в листьях гнилых…
Я взираю на них с сожалением,
И невольно мне страшно за них:
Как живете вы так, без правительства,
Без участков и без податей?
Есть у вас или нет право жительства?
Как без метрик растите детей?
Как воюете без дипломатии, —
Без реляций, гранат и штыков,
Вырывая у собственной братии
Пух и перья из бойких хвостов?
Кто внедряет в вас всех просвещение
И основы моралей родных?
Кто за скверное вас поведение
Исключает из списка живых?
Где у вас здесь простые, где знатные?
Без одежд вы так пресно равны…
Где мундиры торжественно-ватные?
Где шитье под изгибом спины?
Нынче здесь вы, а завтра в Швейцарии, —
Без прописки и без паспортов
Распеваете вольные арии
Миллионом незамкнутых ртов…
Искрошил воробьям я с полбублика.
Встал с крыльца и тревожно вздохнул:
Это даже, увы, не республика,
А анархии дикий разгул!
Улетайте… Лихими дворянами
В корне зло решено ведь пресечь —
Не сравняли бы вас с хулиганами
И не стали б безжалостно сечь!
1913
Стихотворения, написанные в эмиграции и не входившие в прижизненные издания
(1920–1932)
Цикл «Русская печаль»
И. А. Бунину
На виселицы срублены березы.
Слепой ордой затоптаны поля —
И только в книгах пламенные розы,
И только в книгах – русская земля!
Поэт-художник! Странная Жар-Птица
Из той страны, где только вой да пни…
Оазис ваш, где все родное снится,
Укроет многих в эти злые дни.
Спасибо вам за строгие напевы,
За гордое служенье красоте…
В тисках растущего, безвыходного гнева,
Как холодно теперь на высоте!
Шагать по комнате, к окну склоняться молча,
Смотреть на мертвые, пустые облака…
Не раз, не раз, гася приливы желчи,
Дрожала ваша скорбная рука…
Когда падет тупое царство низких, —
Для всех оставшихся – разбитых и больных —
Вы будете одним из самых близких,
Одним из самых близких и родных…
1920, октябрь
Скорбная годовщина
Толстой! Это слово сегодня так странно звучит.
Апостол Добра, пламеневшее жалостью слово…
На наших погостах средь многих затоптанных плит,
Как свежая рана, зияет могила Толстого.
Томясь и страдая, он звал нас в Грядущую Новь,
Слова отреченья и правды сияли над каждым —
Увы! Закрывая лицо, отлетела от мира Любовь
И темная месть отравила томление жажды…
Толстой! Это слово сегодня так горько звучит.
Он истину больше любил, чем себя и Россию…
Но ложь все надменней грохочет в украденный щит
И люди встречают «Осанной» ее, как Мессию.
Что Истина? Трепетный факел свободной души,
Исканья тоскующим сердцем пути для незрячих…
В пустые поля он бежал в предрассветной тиши,
И ветер развеял всю горечь призывов горячих.
Толстой! Это имя сегодня так гордо звучит.
Как имя Платона, как светлое имя Сократа —
Для всех на земле – итальянец он, немец иль бритт —
Прекрасное имя Толстого желанно и свято.
И если сегодня у мирных чужих очагов
Все русское стало как символ звериного быта, —
У родины духа, – бескрайняя ширь берегов
И Муза Толстого вовеки не будет забыта…
Толстой! Это имя сегодня так свято звучит.
Усталость над миром раскинула саван суровый…
Нет в мире иного пути: Любовь победит!
И Истина встанет из гроба и сбросит оковы.
Как путники в бурю, на темном чужом корабле
Плывем мы в тумане… Ни вести, ни зова…
Сегодня мы все на далекой, родимой земле —
У тихой могилы Толстого…
1920
Памяти А. Блока
В аду томился серафим.
Кровавый свод висел над ним…
Чтоб боль отчаянья унять,
Он ад пытался оправдать.
Но странно: темная хвала
Кипела гневом, как хула…
Он смолк. На сломанном крыле
Дрожали тени в дымной мгле.
У врат – безжалостный дракон.
Мечта – распята, воля – сон…
Неспетых песен скорбный рой
Поник над арфою немой.
Уснул… На кроткое чело
Сиянье светлое легло.
Все громче плач, все злей разгул…
Уснул…
1921
Е. А. Полевицкой
Так долог путь: ни вехи, ни приюта…
Ушли в века дни русского уюта,
Бессмысленно ревет, смывая жизнь, гроза.
И вновь к былому тянутся глаза.
В чужом театре – остров русской речи.
Недвижно замерли склонившиеся плечи.
И над рядами реет грустный сон
О русской девушке тургеневских времен.
Она – предчувствие позорной нашей были…
Не ей ли там сквозь сердце меч пронзили?
И не она ли – мать, жена, сестра —
Горит-трепещет в красной мгле костра?
Благословен Ваш нежный образ Лизы!
Ее души волнующие ризы
Коснулись нас в час ночи грозовой
Надеждою нетленной и живой.
1921
Галоши счастья
Посвящается тем, кто мечтает о советской визе
Перед гаснущим камином щуря сонные глаза,
Я смотрел, как алый уголь покрывала бирюза.
Вдруг нежданной светлой гостьей, между шкафом и стеной,
Андерсеновская фея закачалась предо мной.
Усадил ее я в кресло, пледом ноги ей покрыл,
Дождевик ее росистый на корзине разложил…
Лучезарными глазами улыбаясь и маня,
Фея ласково спросила: «Что попросишь у меня?»
В сумке кожаной и грубой, – уж меня не проведешь, —
Угадал я очертанья старых сказочных галош:
Кто б ты ни был, резвый мальчик или сморщенный старик,
Чуть надел их, все что хочешь, ты увидишь в тот же миг…
«Фея, друг мой, вот газеты… чай и булки… Будь добра:
Одолжи Галоши Счастья, посиди здесь до утра!»
И пока она возилась, вскинув кудри над щекой, —
Предо мной встал пестрый город за широкою рекой:
Разноцветные церквушки, пятна лавок и ларьков,
Лента стен, собор и барки… Ах, опять увижу Псков!
Влез в галоши… Даль свернулась. Шпалы, ребра деревень…
Я на площади соборной очутился в серый день.
По базару вялым шагом, как угрюмые быки,
Шли в суконных шлемах чуйки, к небу вскинувши штыки.
Дети рылись в грудах сора, а в пустых мучных рядах
Зябли люди с жалким хламом на трясущихся руках.
«Возвратились?» – тихо вскликнул мой знакомый у ворот,
И в глазах его запавших прочитал я: «Идиот».
«Батов жив?» – «Давно расстрелян». – «Лев Кузьмич?» —
– «Возвратный тиф». —
Все, кого любил и знал я, отошли, как светлый миф…
Ветер дергал над Чекою палку с красным кумачом,
На крыльце торчал китаец, прислонясь к ружью плечом,
Молчаливый двор гостиный притаился, как сова,
Над разбитою лампадой – совнархозные слова…
На реке Пскове – пустыня. Где веселые ладьи?
Черт слизнул и соль, и рыбу, и дубовые бадьи…
Как небритый старый нищий, весь зарос навозом вал,
Дом, где жил я за рекою, комсомольским клубом стал.
Кровли нет. Всех близких стерли. Постоял я на углу —
И пошел в Галошах Счастья в злую уличную мглу.
Странно! Люди мне встречались двух невиданных пород:
У одних – избыток силы, у других – наоборот.
Ах, таких ужасных нищих и таких тревожных глаз
Не коснется, не опишет человеческий рассказ…
У пролома предо мною некто в кожаном предстал:
«Кто такой? Шпион? Бумаги!» Вскинул нос – Сарданапал!
Я Галоши Счастья сбросил и дрожащею рукой
Размахнулся над безмолвной, убегающей рекой.
На столе письмо белело, – потаенный гордый стон,
Под жилетною подкладкой проскользнувший за кордон.
Фея – вздор. Зачем датчанке прилетать в Passy ко мне?
Я, отравленный посланьем, в старый Псков слетал во сне.
‹1924›
Соловьиное сердце
Памяти П. П. Потемкина
Соловьиное сердце – смешное и хрупкое чудо…
Потолочная плесень вдруг вспыхнет восточным ковром,
Ветер всхлипнет за вьюшкой, но в ветре – кто знает откуда? —
Невидимка-органчик веселым звенит серебром.
Ты давно им владел – андерсеновским старым секретом…
Каждый грязный кирпич освещая бенгальским огнем,
Был ты в каждом движенье беспечным и вольным поэтом
И не сделал Пегаса своим водовозным конем.
От обломовских будней, пронизанных питерским гноем,
Уходил ты на волю сквозь створки волшебных дверей:
Полотер ярославский был русским твоим Антиноем,
И лукавый твой сад был шаров разноцветных пестрей.
Так запомнился крепко рисунок твой сочный и четкий:
И румянец герани и толстый ворчун-голубок…
Нахлобучивши шляпу, смотрел ты с усмешкою кроткой,
Насмотрелся и создал лирический русский лубок.
Муза в ситцевом платье была вне парнасских канонов,
Не звезда ль Беранже излучала повторно свой свет?
Но не понял никто из журнальных маститых Катонов,
Что беспечно прошел мимо нас настоящий поэт.
А потом… а потом и без слов нам все это известно.
Рев войны, кумачовый пожар… Где былая, родная герань?
Дом сгорел… На чужбине пустынно, и жутко, и тесно,
И усталый поэт, как в ярмо запряженная лань.
Надорвался и сгинул. Кричат биржевые таблицы…
Гул моторов… Рекламы… Как краток был светлый порыв!
Так порой, если отдыха нет, перёлетные птицы
Гибнут в море, усталые крылья бессильно сложив.
‹1926›
«…Тургеневские девушки в могиле…»
Тургеневские девушки в могиле,
Ромео и Джульетта – сладкий бред…
Легенды и подкрашенные были, —
Что нам скрывать – давно простыл их след!
Мир фактов лют: в коннозаводстве красном
Аборты, сифилис, разгул и детский блуд,
Статистикой подсчитаны бесстрастной,
Давно вошли в марксистский их уют…
С их хлевом не сравним мы заграницу:
Вуаль здесь гуще, сдержаннее жест —
А впрочем, друг, переверни страницу
И посмотри внимательно окрест…
‹1926›
Из цикла «Эмигрантский уезд»
Парижское житие
В мансарде у самых небес,
Где с крыши в глухое окошко
Косится бездомная кошка,
Где кровля свергает отвес, —
Жил беженец, русский ботаник,
Идейный аскет,
По облику – вяземский пряник,
По прошлому – левый кадет.
Направо стоял рундучок
Со старым гербарием в дырках,
Налево, на двух растопырках,
Уютно лежал тюфячок.
Зимою в Париже прохладно,
Но все ж в уголке
Пристроился прочно и ладно
Эмалевый душ на крючке.
Вставал он, как зяблик, легко,
Брал душ и, румяный от стужи,
Подмахивал веничком лужи,
На лестнице пил молоко
И мчался одним перегоном
На съемку в Сен-Клу
Играть скрипача под вагоном
И лорда на светском балу.
К пяти подымался к себе,
Закат разливался так вяло…
Но бодрое солнце играло,
И голубь сидел на трубе…
Поест, к фисгармонии сядет
И детским альтом
Затянет о рейнской наяде,
Сидящей на камне крутом.
Не раз появлялся вверху
Пират фильмовой и коллега:
Нос брюквой, усы печенега,
Пальто на стрекозьем меху.
Под мышкой крутая гитара,
В глазах тишина…
Нацедит в молочник вина
И трубкой затянется яро.
Споют украинский дуэт:
Ботаник мечтательно стонет,
Пират, спотыкаясь, трезвонит
И басом октавит в жилет…
А прачка за тонкой стеною
Мелодии в лад
Качает прической льняною
И штопает кротко халат.
Потом, разумеется, спор, —
Корявый, кривой, бесполезный:
«Европа – мещанка над бездной!»
«А Азия – мутный костер!..»
Пират, покраснев от досады,
Угрюмо рычит,
Что дети – единственный щит,
Что взрослые – тухлые гады…
Ползет холодок по ногам.
Блеснула звезда над домами…
Спор рвется крутыми скачками
К грядущим слепым берегам.
Француженке-прачке неясно:
Орут и орут!
Жизнь мчится, мгновенье прекрасно,
В бистро и тепло, и уют…
Хотя б пригласили в кино!..
Но им, чудакам, не в догадку.
Пират надевает перчатку
И в черное смотрит окно.
Двенадцать. Ночь глубже и строже,
И гостя уж нет.
Бесшумно на зыбкое ложе
Ложится ботаник-аскет.
За тонкой холодной стеной
Лежит одинокая прачка.
Ворчит в коридоре собачка,
И ветер гудит ледяной.
Прислушалась… Что там с соседом?
Проснулся, вскочил…
Свою фисгармонию пледом
Накрыть он забыл.
1928
Русская лавочка
В бочонке селедки
Уютными дремлют рядами…
Изысканно-кроткий
Приказчик склоняется к даме:
«Угодно-с икорки?
Балык первоклассный из Риги…»
Кот Васька с конторки
Лениво глазеет на фиги.
Под штофом с полынной
Тарань аромат излучает…
Ужель за витриной
Парижская площадь сияет?
Так странно в Париже
Стоять над кадушкой с морошкой
И в розовой жиже
Болтать деревянною ложкой…
А рядом полковник
Блаженно припал к кулебяке, —
Глаза, как крыжовник,
Раскинулись веером баки…
Холм яблок на стойке
Круглится румяною митрой,
Вдоль полки настойки
Играют российской палитрой.
Пар ходит, как в бане,
Дух воблы все гуще и слаще,
Над дверью в тумане
Звенит колокольчик все чаще.
1931
Из цикла «Из римской тетради»
Римские камеи
I
На рынке в пестрой суете,
Средь помидорного пожара,
Сидит, подобная мечте,
Пушисто-бронзовая Клара.
Но, ах, из груды помидор
Вдруг рявкнул бас ее матросский:
«Какого дьявола, синьор,
Облокотились вы на доски?!»
II
Под фиговой лапой
В сплошном дезабилье,
Обмахиваюсь шляпой
И жарюсь на скамье,
Но только солнце село, —
Приплыл прохладный мрак:
И с дрожью прячешь тело
В застегнутый пиджак.
III
Нацедив студеной влаги
В две пузатые баклаги,
Я следил у водоема,
Как, журча, струилась нить.
Потный мул в попоне гладкой
Мордой ткнул меня в лопатки:
Друг! Тебя заждались дома, —
Да и мне мешаешь пить!..
IV
Есть белое и красное киянти.
Какое выпить ночью при луне,
Когда бамбук бормочет в вышине
И тень платанов шире пышных мантий?
Пол-литра белого, – так жребию угодно.
О виноградное густое молоко!
Расширилась душа, и телу так легко.
Пол-литра красного теперь войдет свободно.
V
Олеандра дух тягучий —
Как из райского окошка,
А над ним в помойной куче
Разложившаяся кошка.
Две струи вплелись друг в друга…
Ах, для сердца не отрада ль:
Олеандр под солнцем юга
Побеждает даже падаль.
1923
В гостинице «Пьемонт»
(Из эмигрантского альбома)
I
В гостинице «Пьемонт» средь уличного гула
Сидишь по вечерам, как воробей в дупле.
Кровать, комод, два стула
И лампа на столе.
Нажмешь тугой звонок, служитель с маской Данте
Приносит кипяток, подняв надменно бровь.
В душе гудит andante,
Но чай, увы, – морковь.
На письменном столе разрытых писем знаки,
Все непреложнее итоги суеты:
Приятели – собаки,
Издатели – скоты.
И дружба, и любовь, и самый мир не пуф ли?
За стенами блестит намокшая панель…
Снимаю тихо туфли
И бухаюсь в постель.
II
Хозяйка, честная и строгая матрона,
Скосив глаза на вздувшееся лоно,
Сидит перед конторкой целый день,
Как отдыхающий торжественный тюлень.
Я для нее – один из тех господ,
Которым подают по воскресеньям счет:
Простой синьор с потертым чемоданом,
Питающийся хлебом и бананом.
О глупая! Пройдет, примерно, год,
И на твоей гостинице блеснет:
«Здесь проживал…» Нелепая мечта, —
Наверно, не напишут ни черта.
III
За стеной по ночам неизвестный бандит
С незнакомым сопрано бубнит и бубнит:
«Ты змея! Ты лукавая, хитрая дрянь…»
А она отвечает, зевая: «Отстань».
«Завтра утром, ей-Богу, с тобой разведусь».
А она отвечает: «Дурак! Не боюсь!»
О Мадонна… От злости свиваясь волчком,
Так и бросил бы в тонкую дверь башмаком, —
Но нельзя: европейский обычай так строг,
Позовут полицейских, посадят в острог…
Я наутро, как мышь, проскользнул в коридор,
Рядом скрипнула дверь, я уставил свой взор:
Он расчесан до пят, и покорен, и мил,
Не спускал с нее глаз, как влюбленный мандрил.
А она, улыбаясь, покорная лань, —
Положила на грудь ему нежную длань.
1924, февраль, Рим
Жанры и теги
Возрастное ограничение:
12+Дата выхода на Литрес:
03 октября 2017Объем:
70 стр. 1 иллюстрацияISBN:
978-5-17-105266-9Правообладатель:
Public DomainВходит в серию "Стихи о любви (АСТ)"