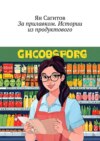Читать книгу: «Когда шутки были смешными. Жизнь и необычайные приключения команды КВН «МАГМА»», страница 3
Вот так, хотя и с большим скрипом, но дружно и весело МАГМА начала свое тернистое восхождение к вершинам… Ну ладно, не к вершинам. К подножию вершин КВНа.
Небольшой постскриптум. Гере Позину и Леве Этинзону надо было тогда зачем-то пораньше вернуться в Москву. Билетов не было. Как не было, впрочем, и почти всего тогда в стране, кроме непонятной, но незыблемой и почти всенародной веры в светлое будущее. Гера и Лев обратились к организаторам фестиваля. Среди них оказался и один партийный работник из горкома. Тот, как всем партийным работникам было свойственно, сразу наврал с три короба, что у него все схвачено и они будут доставлены в Москву в лучшем виде То, что он наврал с три короба, выяснилось уже в плацкартном вагоне поезда. Проводник ни сном ни духом не ведал ни о какой брони, но тут Лев опять включил свою обаяшку на полную, проводник сжалился и за умеренную мзду выделил им третью, багажную полку, правда, одну на двоих. Но дал матрас. Проблема в третьей полке оказалась в том, что при лежании на спине довольно-таки выдающиеся носы Геры и Левы упирались прямо в потолок. Некомфортно, знаете ли, спать со сплющенным носом. Гера повернул голову направо, Лев, как ему и положено по имени – налево. Ворочаться категорически было нельзя, ибо Гере грозило спикировать своим выдающимся носом прямо на столик внизу. Так и спали всю ночь.
Проснувшись и кое-как сползя вниз, оба обнаружили, что у них от непривычных поз заклинило шеи. Выходить из вагона и идти по вокзалу им пришлось боком. Что привлекало пристальное, и в основном недоброе, внимание окружающих. В таком «лучшем виде», спасибо партработнику, дошли до метро. На входе их остановил милиционер. Стал проверять документы. Хорошо, хоть московская прописка была у обоих, но милиционер предложил пройти в отделение.
– Да в чем, собственно, дело? – возмутился Лев, кося на милиционера правым глазом.
– Вы, граждане, очень некрасиво российский герб пародируете. Тоже мне, орлы нашлись…
Не все кончается
Военно-историческая справка
Военно-патриотический клуб им. А. Егорова (ВПК) был создан студентами и аспирантами МГИ к 25-летию Победы. В 1968 году. В википедии есть статья про клуб. Кто хочет – можете прочитать подробней, мы же здесь расскажем о том, чего в той статье нет и что имеет прямое отношение к команде МАГМА
Рукописи не горят!
Воланд
Два раза в год, весной и осенью, проводились слеты ВПК в лесу около деревни Кременки, на местах первого боя 1-й дивизии народного ополчения, созданной в 1941-м на базе Московского горного института (потом – 60-й Севско-Варшавской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии). В годы расцвета клуба, во второй половине восьмидесятых, на слетах собиралось до четырехсот человек. Не дивизия, но почти полк. Конечно, в первую очередь студентов привлекала возможность вырваться из города, от надоевшей учебы, из опостылевшей общаги (или от родительской опеки) и чудно провести три-четыре дня на свободе, в лесу, в палатках, в компании людей хороших, неравнодушных, веселых и азартных. А также конкурсы, игры, спорт, концерты, ночные песни у костра – полный набор пригородной романтики. И, конечно, любовь. Особенно на майских слетах. Почему-то. По количеству сложившихся семейных пар ВПК далеко переплюнул все московские клубы знакомств вместе взятые. Такой клуб затягивал. И кто попадал на слет один раз, в большинстве случаев оставался в клубе на все время учебы.
Из военно-патриотических мероприятий самым торжественным и ярким, во всех смыслах слова, было факельное шествие ночью к Мемориалу павшим воинам. Многие местные приходили посмотреть. И там же принимались новые члены клуба. Впечатляло до дрожи. Спустя много лет эту славную традицию Сергей Белоголовцев славно возродил. Уже на слеты мы ездили с детьми. Сергей собрал всех детишек, вручил им факелы и повел колонну к Мемориалу. До невозможности трогательное зрелище. Папы-мамы-дяди-тети шли второй колонной. У Мемориала читали стихи и пели военные песни. Дети тоже. Обратно детей несли. Все-таки три километра ночью, по грязи.
Из спортивных дисциплин на слетах главным был, конечно, футбол. Стать чемпионом слета было очень престижно и почетно и помнилось годами. Многие приходили в клуб именно из-за футбола. Спустя годы, когда мы стали пузатыми дядьками и обзавелись женами, детьми, автомобилями, одышкой… сильную конкуренцию футболу стал составлять спорт номер два – преферанс. Многие стали ездить на слеты именно из-за преферанса.
Но важнейшим событием всего слета был концерт (и конкурс) художественной самодеятельности. Для военно-патриотической части брали военную прозу, стихи и песни. А лирическую часть в меру сил писать пытались сами. Исторически так сложилось, что гегемоном в этой части всегда был отряд физико-технического факультета, как самого интеллигентного. А уж когда (1984) сложился тандем Антонов – Белоголовцев, физтеху и вовсе не было равных. Когда этот тандем закончил учебу, знамя подхватил не менее интеллигентный факультет электроники и автоматики со своим тандемом Кочанов – Позин. Другие факультеты время от времени пытались бороться, но получалось не всегда и не у всех. В этой неравной, но очень веселой борьбе и сложился костяк будущей МАГМЫ.
И что любопытно – за все многолетнее время проведения слетов не было ни одного конфликта с местными. В отличие от выездов, например, на картошку, когда случались массовые кровопролитные побоища. Наверно, мы и сами были не задиристые, по чужим огородам не лазили, к местным девкам не приставали, своих хватало. (Несмотря на то что институт горный по большей части мужской, но на слетах девчонок была масса). Играло свою роль и то, что местные уже знали историю клуба и его направленность. И мусор мы за собой весь убирали, и на дрова валили только сухостой, и сухой закон (очень строгий) был на слетах, еще до горбачевского всенародного. И на слетах, в отличие от горбачевского, он соблюдался от и до.
Разве что уже в девяностых, когда многие ребята стали приезжать на слет на дорогих мерсах и тойотах, случился небольшой инцидент. Сидим чудным тихим весенним вечерком у костра, поем хором в тысячный раз Визбора «А все кончается, кончается…» Вдруг страшный характерный скрежет-грохот, режущий сердца всем автолюбителям. Пьяный местный придурок решил погонять с девчонками по пустым лесным дорогам. Ну и въехал в Папушин ленд-крузер. А говорила ему утром Таня: «Не паркуйся рядом с дорогой!» Но Илья уже погасил зажигание, уже выпил пятьдесят и сказал, что пьяный за руль не сядет. Тот придурок попытался убежать темным лесом, но наши следопыты его быстро поймали. Дима Старостин порывался его немедленно и саморучно линчевать. Еле оттащили. Слава богу, Паша Красовский собирался уезжать рано утром, поэтому вообще не пил. Он съездил за гаишниками, те приехали, похохотали над такой аварией, местного увезли, и на этом инцидент был исчерпан. Но с тех пор Папуша всегда заезжал подальше от дороги в лес и парковался за самой толстой сосной.
Хотя был один вооруженный конфликт, который мог закончиться весьма плачевно. Но не в Кременках, а по соседству. В начале девяностых однажды мы решили изменить место проведения слета. Тогда у многих были беременные жены, у других – маленькие дети. Не хотелось, чтобы ночевали они в палатках на сырой земле. Решили ночевать в пансионате неподалеку, на берегу Оки. А днем съездить в Кременки, к памятнику и поиграть в футбол. Детей уложили спать, сидим поздним вечером в пансионате на улице за большим столом, празднуем. И докопался до нас какой-то пьяный крепышок в спортивном костюме, каких тогда полно было на каждом шагу, такой начинающий рэкетир. Паша Красовский, командир отряда факультета физтех, посоветовал крепышу валить куда подальше, слово за слово – крепыш встал, покачиваясь, в боксерскую стойку. Паша тоже встал. Все наши сидели спокойно – все знали, что Паша бывший каратист, я сам видел, как однажды на лестнице в общаге Паша ударом ноги в голову положил старшекурсника, который стоял на три ступеньки выше… Паша встал. И опустил стул, на котором сидел, на голову крепыша. Крепыш лег. Хорошо, что стул был хлипкий – сломался после первого удара. Паша наклонился к лежащему без чувств крепышу: «Ты, что, идиотина, думал – я с тобой на кулачках буду драться?! Руки об тебя марать…» Вечер был испорчен, все разошлись по домикам спать. Не успели раздеться – дикий визг. Выскочили. Тот придурок очухался, взял топор с пожарного стенда и пошел разбираться. Попал в домик к нашим девчонкам с детьми. Мы метнулись туда, Паша прибежал первым. Тут уж Паша разломал об его голову два гораздо более крепких стула. Вынесли придурка, положили на сыру землю, сидим, думаем. За ним пришли двое его пьяных дружков, унесли в машину, уехали. Нам сразу стало понятно – «за братвой!» И хотя не факт, что они среди ночи соберут бригаду и, вообще, что доедут пьяные до Серпухова, но береженого бог бережет. К тому же жены, дети. Сборы заняли секунд тридцать. И жены собрались быстрей, чем их служившие в армии мужья. Слегка подзадержался только один, тогда еще неженатый, член ВПК. Он вообще все это Ватерлоо пропустил, а ходил по базе отдыха в поисках любовных утех, успел познакомиться с прекрасной аборигенкой, привел к себе в домик и даже улегся с ней в кроватку. И тут к нему без стука вбегает взмыленный Лев:
– Дима, вставай! (имя, по понятным причинам, изменено) Уезжаем, Паша человека убил!
На одевания не было времени, лже-Дмитрий схватил вещи в охапку и так босиком и в трусах и поехал. Конечно, Паша никого не убил, будь не так, милиция нашла бы нас быстро, все наши фамилии и адреса были у администрации пансионата. Да и когда через полгода собрались на осенний слет, все было тихо-мирно. Но фраза стала крылатой. Если куда-то нужно было срочно бежать, обязательно кто-нибудь спрашивал:
– Что, Паша человека убил?
Очевидно было, что ехать в Москву выпимши нельзя. Да могли и нарваться по дороге на тех козлов, поехали налево, на старое слетовское место. Последними уезжали мы с Пашей и моей женой Женей. Пока обошли все домики, чтобы случайно никого не забыть… Выезжаем в ворота – нам навстречу кавалькада подержанных иномарок. Типичная бандитская автоколонна. Навряд ли, конечно, они так быстро, но черт их знает. Паша на всякий случай пригнулся под руль. А из тех машин в нас внимательно всматривались не очень дружелюбные морды. Может, правда, они просто удивлялись, как это по обочине едет машина без шофера, но было страшновато. На этом конфликт и завершился. А слет продолжился, и отлично поспали на сырой земле и беременные, и маленькие…
Но не хочется заканчивать главу про ВПК на этой не самой веселой ноте. Расскажу забавную историю про один текст от вышеупомянутого тандема Антонов – Белоголовцев. Заказали нам номер для общажного концерта Клуба любителей искусств, непонятного изобретения комитета комсомола, куда нас зачислили против нашей воли, по линии общественной нагрузки. Просуществовал клуб всего-то полгода, но пару мероприятий успел провести. Накропали мы с Белым быстренько смешной стишок про Моську – подражание Леониду Филатову, творчество которого мы тогда (и сейчас тоже) очень любили.
Стойкая, как шарошка,
Чистая, как нивелир,
Моська не грызла кошку,
Моська была за мир.
Как-то на общем собрании
Слово взяла она
И, не боясь последствий,
Гавкнула на слона.
Моську ногами било
Целое стадо слонов.
Вот как все это было.
Не так, как писал Крылов…
Ну, и так далее.
Но для выступления одного стишка было маловато и мы дописали «собачью трилогию» – на тему «Собаки Баскервилей» и «Муму». «…Красиво здесь, река и лес, я не был здесь ни разу! Герасим, мы куда идем? – Идем топить тебя, заразу…» Это был наш первый выход на пусть и небольшую – зрителей на 200, но настоящую сцену, а не родную, лесную. Нас ждал бешеный успех. Зрители в буквальном смысле валились со стульев от хохота. В зал набилось человек триста, еще и из коридора толпа смотрела-слушала. Пришлось на ходу учиться держать «паузы на смех». Многие строчки приходилось повторять по два раза из-за взрывов хохота. К тому же текст был насыщен шахтерскими спецтерминами, что благодарно было встречено горняцкой публикой. Это, кстати, научило нас в дальнейшем адаптировать тексты на гастролях под местные реалии, что всегда встречалось на ура. Короче, первый блин вышел тортом с вишенкой.
Но, как нелепо это ни звучит, – на нас написали донос в КГБ! Сейчас смешно, а тогда мы, честно, перепугались не на шутку. Помнили мы истории, когда людей исключали из института за участие в «Клубе самодеятельной песни». Но слава богу, вовремя Перестройка началась. В КГБ не знали, что с нами делать. Спустили бумагу в институтский комитет комсомола. Секретарь с нами побеседовал, понял, что никакие мы не диссиденты, а военные патриоты, и просто попросил пока больше вообще ничего не писать. Пока не станет понятно, во что эта перестройка выльется. А случись эта история на пару лет раньше, исключили бы нас и из комсомола, и из института, и ждало бы нас самое страшное наказание в СССР – служба в Советской Армии…
Спустя несколько лет эта собачья история получила неожиданное продолжение. Дима Старостин окончил институт и поехал в Сибирь, под крыло старшего брата Андрея. И там у них на День шахтера придумали сыграть в КВН. Но было у них в городе всего две команды. Не массово! Вспомнили, что братья Старостины в институте участвовали в каком-то клубе, и в приказном порядке обязали их участвовать. Тут они были, в общем-то, недалеки от истины, любой вэпэкашник автоматически приобщался к творчеству и становился в какой-то мере кавээнщиком. Дима, хоть и был приличным футболистом и знатным лесорубом, на сцене никогда особо не блистал. Андрей тоже не числился в первых рядах актеров или авторов. Что делать? И тогда братья вспомнили наизусть ту нашу собачью трилогию. Я бы сам, хоть и писал, но через год бы не вспомнил. А тут – через несколько лет, чужой текст, дословно! Вот у кого бы Мише Резниченко поучиться! Ну, вот игра. Там выходили нормальные команды – куча народу, все в костюмах, все шутят, музыка, песни, танцы! И вышли братья Старостины – в чем были, свитерках и джинсиках. И забабахали на два голоса собачью трилогию. И победили!
Вот на этой веселой ноте…
Снег и лед, смех и горе
В этой главе рассказывается о двух Зимних походах, между которыми прошло двадцать лет
С хорошим попутчиком дорога легче!
Абдулла, «Белое солнце пустыни»
У Штирлица защемило сердце.
Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах.
Ефим Копелян, «17 мгновений весны»
Мне в сугробе горе, а ребятам смех
И. Суриков. Вот моя деревня
Важной частью работы ВПК с самого его основания были Зимние походы. Это было чисто военно-патриотическое мероприятие со спортивным уклоном. Планировалось пройти на лыжах от Кременок по местам боев 1-й дивизии народного ополчения как можно дальше. В идеале хотелось бы дойти до Берлина, но для этого надо было знать польский и немецкий языки, а также иметь загранпаспорта, которые в СССР без проблем могли получить только космонавты, балерины и хоккеисты. Поэтому конечной точкой назначили Севск, имя которого носила дивизия (Севско-Варшавская). В программе похода – встречи с ветеранами и очевидцами войны, посещение музеев, сбор материалов для институтского музея. Очень патриотично, очень спортивно и очень интересно. Но был существенный минус – нужно было пожертвовать зимними каникулами, что для иногородних студентов, особенно младших курсов, было весьма и весьма жертвенно. И еще надо было уметь хорошо ходить на лыжах, что было редкостью уже для студентов-москвичей. В итоге в первый лыжный поход отправились всего девять энтузиастов – семь парней и две девушки. Поход этот давно стал легендой и оброс фантастическими подробностями, пришлось приложить немало стараний, чтобы оставить в этом рассказе только то, что было на самом деле.
И вот, в середине января 196… то ли восьмого, то ли девятого года легендарный поход начался. До Кременок доехали на автобусе, решено было заночевать в лесу на месте слета, а рано утром двинуться уже собственно в поход. Дорога от автобусной остановки до места ночлега (3 км) выявила существенные недостатки в экипировке. Никаких станковых рюкзаков тогда, конечно, не было. Обычные советские зеленые туристские рюкзаки. Напихать в них, правда, можно было немеряно, но носить их было так же удобно, как мешок картошки. Хорошо хоть с лямками. Решили все, что можно, из рюкзаков убрать и оставить у знакомых в Кременках, а потом когда-нибудь забрать. Проверили и выяснили, что в один спальник помещаются двое, а в двухместной палатке спокойно можно спать и впятером, еще и теплее будет. Оставили и лишние спальники, и палатки. Также оставили всю еду, кроме сухарей и шоколада. Что, по дороге магазинов, что ли, не будет?!
Утром пошли уже сильно налегке и гораздо веселее. Первые полчаса. С утра температура упала ниже двадцати, начались те самые русские крещенские морозы, которые доконали многих, в том числе и Наполеона, и Гудериана. Через полчаса выявилось просто катастрофическое упущение в экипировке. Эх, никого там не было из Воркуты! Он бы им сказал, что для таких походов лыжнику жизненно необходимы гульфики. Например, мой папа, большой любитель отмахать по тундре километров пятьдесят в лютый мороз, шил и себе, и мне, и всем знакомым отличные гульфики из обрезков песцовых шкурок. И тепло, и красиво. Щекотно только. А без гульфика у лыжника возникают не только неприятные ощущения, но и физиологические проблемы – при отправлении малой нужды просто невозможно нашарить необходимый инструмент. И психологические проблемы – чувство безвозвратной потери важнейшей детали мужского организма очень давит на психику и невозможно сосредоточиться на правильной технике лыжного бега.
Хорошо, хоть девушек эти проблемы не коснулись, но ребятам пришлось сделать привал, разжечь костер и напихать в штаны запасные носки, трусы и майки. Идти стало опять веселее, но опять ненадолго.
Быстро выяснилось, что советские деревянные беговые лыжи Мукачевской фабрики совершенно не подходят для бега в лесу по целинному снегу. К тому же рюкзаки, хоть и заметно полегчали, но отнюдь не превратились в воздушные шарики, а наоборот, с каждым километром становились все тяжелее и тяжелее. В результате средняя скорость передвижения составляла километра полтора в час. До пункта первой остановки, Малоярославца, от Кременок сорок километров. Олимпийский чемпион Александр Легков пробежал бы их часа за полтора. Правда, по лыжне и без рюкзака. Наши герои (без кавычек), выйдя из Кременок в шесть утра, доплелись до Малоярославца в 10 часов вечера. И рухнули. Понятно, что ни о какой ночевке в лесу речи не могло быть. Не было сил даже достать палатки из рюкзаков, не то что их поставить. Спасибо местному комсомолу – разместили на ночлег в спортзале школы. (Потом школьные спортзалы стали традиционным и любимым местом ночлега во всех зимних походах.)
Утром все встали еле-еле, но с полной решимостью продолжать поход. Правда, большинством голосов решили девушек все-таки отправить домой, потому что следующий переход представлялся еще более тяжким – 140 км до Вязьмы, где наша дивизия вела жесточайшие бои, много раз попадала в окружение и выходила из него, чудом сохранив боеспособность. Правда, у этого чуда есть и другое название – массовый героизм. Дойти до Вязьмы было для горняков делом чести. И они дошли. Переход оказался действительно тяжким и занял шесть дней. На этом командир похода Леонид Светлаков решил поставить точку. Хотя и были предложения продолжить. Аргументы против продолжения были весомее – до Севска оставалось 340 км, месяц пути, снаряжение ни к черту, лучше подождать, пока в продаже появятся станковые рюкзаки Tramp Orlan, пластиковые лыжи Rossignol и гульфики с подогревом. Можно продолжить путь и без лыж, но тогда теряется чистота эксперимента и вряд ли об этом походе будут слагать легенды. Леонид оказался прав, поход закончился в Вязьме, легенды сложились, «Россиньолы» появились на прилавках.
Только в зимние походы на лыжах больше никто не ходил. После того похода было решено отказаться от спортивной составляющей и пересесть на общественный транспорт. И сразу от желающих отбоя не стало. Это позволило добавить в программу походов концерты агитбригады, которые со временем и стали главным занятием в походах.
Однажды, двадцать лет спустя, командиром зимнего похода стал Володя Дакал. Ничем он в истории не отметился, кроме провокационной фамилии и умения на глазок абсолютно поровну разлить бутылку водки на двадцать человек. Этому умению он битых два года обучался в стройбате в Бурятии. И еще одним случаем он запомнился неблагодарным потомкам.
Володя вдруг вспомнил об изначальной идее походов, и когда отряд прибыл в украинскую деревню Задериевку, командир приказал топать в белорусский городок Лоев пешкодралом, форсируя Днепр, по которому в том месте проходила граница между двумя тогда еще республиками Союза. Именно приказал – никакой сопливой демократии Володя не признавал, потому что он был командиром, и он служил в армии, и у него были усы, а больше никто, кроме него, в армии не служил, и командиром не был, и усов не имел. Когда некоторые стали канючить, что, мол, на фига это надо, Вова отрезал, что, во-первых, поход должен быть походом, а не поездкой, а во-вторых, Севско-Варшавская дивизия форсировала Днепр не зимой по ровному крепкому льду, а в холодной осенней воде и под обстрелом. Все канючить перестали и пошли. Парни взяли рюкзаки у девушек, личное оружие каждый должен был нести сам. Хорошо, что его не было. Хитрый Саша Синчук взял рюкзак у Иры Кригман. Она была самая маленькая, соответственно и вещи у нее были маленькие, и рюкзак самый легкий.
Подошли к Днепру. Лед оказался совсем не ровный и совсем не крепкий. Где-то намело снег, где-то подтаяло, потом подморозило и под настом были лужи. Ноги часто проваливались сквозь наст. «Смотрите на тех, кто не проваливается, и идите за ними след в след!» – скомандовал Вова. Саша Синчук решил идти след в след за Ирой Кригман. И потому, что он нес ее рюкзак, и потому, что Ира была девушкой очень симпатичной и хрупкой, идти за ней было приятно и мужественно. Саша в пылу мужественности не сообразил, что их разница в весе с учетом двух рюкзаков составляла килограммов двести. Хрупкая Ира не проваливалась вообще, даже следов почти не оставляла, а Саша, идя за ней, на пятом шаге проломил лед и ухнул по пояс. Хорошо, что у самого берега. Сразу посыпались доброжелательные советы – связать шнурки от ботинок и тащить Сашу волоком, как из варяг в греки; вызвать пожарный вертолет; вызвать ледокол «Ленин»; бежать в деревню за лыжами; дождаться весны и перебираться вплавь. В общем, повеселились от души. Но Саша мужественно встал и пошел сам. Правда, выглядело это уже не так мужественно, как первые четыре шага – теперь при начале проваливания он предусмотрительно падал на четвереньки и несколько метров полз. Ширина Днепра в том месте метров триста. Из них Саша прополз двести пятьдесят. Командир Вова время от времени кричал ему:
– Вперед, вперед! Наш концерт ждут белорусские дети!
И Саша, не прошло и года, добрался до правого берега! Чем заслужил сразу три почетные клички – Ледокол Синчук, Крейсер Аврора и Дебелый медведь. До Лоева оставалось километра полтора. Чтоб Саша насмерть не замерз, командир приказал ему снять рюкзак Иры и бежать бегом, сопровождающим назначил лучшего бегуна Андрея Третьякова. Андрей потом рассказал, что бежали они как Басилашвили с Гурченко и баяном в «Вокзале для двоих». Из последних Сашиных сил добежали до первого дома, постучали, вышли хозяева. И Саша, задыхаясь, попросил у них… воды. Белорусы просто рты разинули – мокрый с головы до ног человек просит еще воды! Но черт его знает, может, морж такой закаленный. И полведра все-таки вынесли. И очень удивились, когда Саша, вместо того, чтобы вылить воду на себя, выпил ее всю за один присест.
А детей, к которым Саша полз и бежал давать концерт, вообще в Лоеве не оказалось. Это была Гомельская область, зона Чернобыльской катастрофы, и всех детей оттуда вывезли еще полтора года назад.
Приключения Синчука, точнее – злоключения, в том походе не ограничились этим марафонским заплывом-заползом-забегом. Еще более жуткая история с ним приключилась на маленьком украинском вокзальчике, где команде пришлось часа полтора ждать поезда. Решили скоротать время за детской игрой «крокодил». Одна команда загадывает слово избранному игроку из другой команды, а все остальные его отгадывают. Прошла пара кругов и слово загадали Саше. Кенгуру. И показать, и отгадать несложно, но не в тот раз. Это был сговор, за который Гере Позину немножко стыдно до сих пор. Единственному из всех. Остальные вспоминают этот случай с огромным удовольствием. Кроме Синчука, естественно.
Саша изображал животное на задних лапах – суслик! Не, суслик худой, это хомяк! Хомяк-обжора! Морская свинка! Не, морской свин! Саша показывал ладошками уши – заяц! Саша повесил сумку на пузо – почтальон! Саша прыгал по вокзалу – сумасшедший почтальон! Вокзал трясся от Сашиных прыжков и от громового хохота. Подошедший милицейский патруль сначала думал, что землетрясение, а потом стали ржать вместе со всеми. Саша очень старался. Тря-со-гузка – кто-то выдавливал из себя и снова мимо, конечно. Каких только вариантов не было – Бубка без шеста, беременный суслик, пьяный инкассатор, беременный Бубка, Кинг Конг, борьба сумо, шило в заднице, веселый слоненок, бегемотик маму потерял!.. Орали уже все подряд, все было смешно, хохотал уже весь вокзал. Сейсмодатчики в Молдавии зафиксировали легкие колебания. Только подошедший поезд спас эту станцию от полного разрушения, Синчука от инфаркта, а всех остальных от вывиха челюсти и заворота кишок.