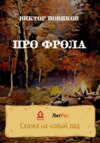Читать книгу: «Расскажи о сиянии, Олькко», страница 5
Близ к выходу из дворца людей всё больше и больше. Толпу не счесть… Все в тех же долгополых одеждах, что мудрецы на стенах, невообразимейших расцветок, с щедрым шитьём золотом, жемчугами, драгоценностями.
Царь, коий стоит спиною к своим придворным и с высот дворцовых ступеней обращается к народу, обряжен не менее богато… Царь он не только потому что златолистая корона в сизых кудрях его. Народ под дворцом бурлит исто как море – то радостное, то гневливое, то обманчиво-мирное – и глас царя летает над сим морем, словно утишающее волну волшебное кантеле. Скорбно-торжественная, но грозная царёва речь до последней капли созвучна чаяниям тех, кто внизу, забыв себя, жадно внимает ему.
– Ба! Зив! Лес! – кричат люди, вскидывая от сердца десницу, когда царь примолкает и вопрошающе смотрит на море их.
– Ба! Зив! Лес! Ба! Зив! Лес!
– Аксиос! Аксиос!..
Олькко понимает, что что-то ему очень не нравится. Дворец, говоря совсем по-детски… Нехороший, неправильный.
На корабле вот хотелось всё оббегать, полазить по снастям, узнать, как поставлены и закреплены гребцовые лавки, глянуть и спрыгнуть в трюм – то тут по своей воле никуда не пойдёшь…
Чем Олькко больше вглядывается в углы, тени, щели дворцовские, тем яснее видит, как оттуда чёрной мошкарой, мухами, пауками, паутиной лезет Нокова та плесень.
Плесень селится, расшивая всё чёрными шёлковыми стежками, по эмалям, фрескам, мозаикам, изразцам, мрамору дворцового убранства – ровно как сине-зелёная сестра её на хлебном разломе. И главное, главное… Она, кружа омутами, большими и малыми, тянется, тянется к царю – ярее ещё разрастаясь от раздумий приближённых к нему и подкладок в словах-словесах из тихих бесед их. Тянется, тянется ловчей охотничьей сетью, безобразными лохматыми верёвками, одна из коих вот-вот обовьётся о шею с царским ожерельем… Царя ждёт тот же конец, что и хозяина корабля.
Нож в него направит не одна рука, но десяток. Убийцы, впрочем, ножа и не коснутся. Правда, ножа как такового не будет…
– Цесарь! Цесарь!.. Аксиос!
Царь в глубине мечущейся души знает, что обречён. Посему речь говорит, как песнь великую поёт – дабы если не он, то последующий поведёт народ по дороге, пролагаемой им.
– Аксиос!..
Он порою желает сбежать по красномраморным ступеням вниз, но не может. От трусости, жадности ли – жаль золота одежд своих – или пут, что держат его?..
Плесень за ним чернеет смрадным зёвом, распухает, тошнотворно наливается, плавится и масляно блестит. Течёт как ручьями-реками, обильно плача или кровоточа, так и тягуче, медленно-медленно капая, словно мёд из сот. Кое-где высыхает в твёрдые, колючие, хрупкие наросты, что искрошатся уже от лёгкого прикосновения, а то и взгляда… Она, плесень, уткала собою все залы и переходы, пожрала каждую из теней во дворце, а сейчас одного за одним – бесшумно, безжалостно, безразборно – поглощает царёвых придворных с их медовыми улыбками и змеиными глазами. И скоро, скоро нависнет над самим царём, готовая погрести его, орушив с чавканьем смолисто-гнилые челюсти.
Олькко стоит прямо перед царём, грудь в грудь. Смотрит в круглые от страха и ярости карие глаза того.
Олькко не по себе, что на него, мальца из глухой деревни, ответно смотрит, умоляя о помощи, в испуге, великий и почитаемый человек. Как тонущий в болоте, а силёнок вытащить его нет, и добежать куда-то Олькко не успеет… Большая, большая ноша взгляд этот для Олькко.
И кажется, что царь говорит теперь с ним…
Открытые ветру брови и лоб сильно кусает морозом. Олькко от неожиданности разлепляет сросшиеся в одно целое губы – чтобы вдохнуть зараз и ртом, и забитым носом.
– Олькко! Олькко, не спи, пожалуйста!
И хлоп-хлоп по отчужделой щеке уже…
– Пойдём… – слетает вдруг с уст царя, глуша прежнюю его речь, вырывая Олькко из жгучих, сонливых оков мороза. – Узн… Узнаешь то, что узнать не думал.
Олькко удивляется. Неужто царь и вправду с ним говорил?..
* * *
Лицо царя меняется. Становится моложе, смуглее, обветренней, по рисунку морщин более жестоким, хищным, менее раздумчивым и обеспокоенным.
Олькко словно как моргает, моргает и видит, что не царь это вовсе… Из той же, правда, или соплеменной страны.
Человек сидит середь других людей в шатре. Или скорее – в палатке, чьи полотняные стены колышутся под ветряными порывами. Потолок её ниже, чем даже в избушке бабки Феклы.
Дурманно, душно в сердцевине палатки чадят жаровни. Бесчисленные, толстые – и посему предорогие – свечи, трепеща от дуновений ярко-жёлтыми язычками в горячих ротках, сдвинуты тесно друг к другу и тонут, тонут в остывающих восковых озёрах. Свечи, можно сказать, вторы́-живы́ здесь – кроме людей…
Люди в палатке большей частью, как царесвойственник, сидят смиренно на коленях, выжидая своего, как на иголках, а кто-то кучкой меньшею, вольготно развалившись, веселится в высоком углу, стланном коврами и подушками расшитыми.