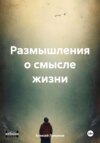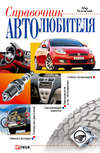Читать книгу: «Группа Дятлова: поход в вечность», страница 13
Однако ради чего вся эта биографическая археология? Почему исследователи копают настолько глубоко, что теперь мы знаем биографию Золотарева так хорошо, как вряд ли информированы о прошлом своих родных? Ведь если дело в том, что все эти биографические изыскания имеют целью найти связь прошлого Семена с гибелью группы, то таковая пока не прослеживается. Будь он хоть трижды шпионом-диверсантом, работающим на американскую, советскую или немецкую разведки, сам по себе этот факт не приближает нас к решению загадки гибели группы Дятлова. Хотя не спорю, такие предположения – это готовый сюжет для высокобюджетного фильма или захватывающей книги.
Не получается всерьез рассматривать несостыковки с датами и номерами воинских частей. Первые годы войны были очень напряженным временем больших отступлений, потерь и огромной неразберихи с документами. Что и говорить, если все военные архивы были приведены в порядок только к середине 1960-х годов. Поэтому нечего удивляться, что Золотарев, проходя через горнило первых военных лет, будучи участником трагической харьковской операции, где число погибших и плененных исчислялось сотнями тысяч, не всегда был вовремя информирован о том, что его воинское соединение было переименовано. Начиная с 1943 года, когда на фронте появилась положительная динамика, улучшился учет и документооборот. Напомню, что начиная с конца 1942 года несостыковок в военной биографии Золотарева не фиксируется.
В попытках расшифровать татуировки стоит учитывать факт того, что тело Семена почти три месяца провело в воде и, возможно, это нанесло определенный ущерб читаемости и понятности татуировок. Причем не стоит сбрасывать со счетов и то, что, наряду с действием воды, происходило и разложение кожи. Может так статься, что мы зря ломаем головы над непонятным именем Гена, которое вполне могло быть испорченным водой и разложением «Сеня». Это же, возможно, произошло и с таинственной наколкой «Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ», где изначально могла быть смесь аббревиатур и слов, а под воздействием воды и разложения надпись превратилась в нечитаемую абракадабру.
Для решения загадки гибели группы Дятлова представляется более продуктивным искать факторы, которые непосредственно привели к трагедии. Например, как мы уже отмечали, события 31 января вызывают в этом отношении определенные вопросы. Ведь что-то привело участников группы к установке палатки 1 февраля в нестандартном и опасном месте на склоне горы «1079», а затем обусловило оставление места ночлега. Вряд ли на это влиял факт того, что Золотарев допустил ошибки в названиях воинских частей при написании своей автобиографии.
Среди участников рокового похода Семен был самым старшим. Остальные ребята были еще весьма молоды для того, чтобы у них появились собственные «скелеты в шкафу». Поэтому, как кажется, и обрушилась вся исследовательская энергия на Золотарева. Ведь согласитесь, что на жизненном пути почти любого человека старше тридцати пяти – сорока лет всегда можно найти различные «темные тупички», «нелогичные повороты» и прочие «съезды с основной трассы».
Приступая к делу группы Дятлова, уже видя себя первооткрывателями и решателями загадки, но сталкиваясь с объективными трудностями, некоторые исследователи испытывают разочарование и вступают в мир конспирологических интерпретаций, фокусируя все внимание на двух фигурах – Юрия Юдина и Семена Золотарева, подозревая их в сознательном сокрытии информации, участии или организации заговора или, что еще хуже, – преступлении.
Глава 6. Вопросы без ответов
Теории ничего не доказывают, зато позволяют выиграть время и отдохнуть, если ты вконец запутался, стараясь найти то, что найти невозможно.
Марк Твен
Очевидно, что в наше время история трагической гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова начала жить своей жизнью, обрастать выдуманными деталями и сенсационными утверждениями. Стал оформляться бренд «Перевал Дятлова». Думаю, не ошибусь, если заявлю, что сегодня мы можем наблюдать процесс активной мифологизации рокового похода на перевале и биографий ее основных участников. И должно признать, что этот процесс начался не сегодня, а практически сразу с момента формулирования самой первой версии трагедии. Именно тогда возникли сюжеты «борьбы за выживание у кедра»; «снежной лавины, которая избирательно повредила троих участников похода и предусмотрительно исчезла без следа»; «умопомрачения, вызванного отравлением продуктами горения ракетного топлива или приемом экспериментальных психотропных препаратов»; «избирательного действия неведомой силы из огненных шаров»; «стихийной силы, преодолеть которую туристы были не в состоянии»; «любовного треугольника» и страстей кипение которых, привело к смертоубийству на перевале.
К тому же сам следователь Иванов, наряду с идеей «огненных шаров», привнес еще и некое мистическое отношение к трагедии. Так, например, участник поисков Владислав Биенко вспоминал один из разговоров с Ивановым, в котором Лев Никитич поделился, что «если бы он был суеверным, то поверил бы в чертовщину. То, что произошло с ребятами, по естественным природным причинам не могло произойти. <…> Кажется, что там было два приложения неведомой нам стихийной силы: одно – психическое, выгнавшее здоровых ребят из палатки, и второе – физическое, искалечившее и убившее троих ушедших в сторону от основной группы».
В настоящее время процесс мифологизации трагедии получает новые импульсы. Появляются все новые сенсационные «факты». Так, например, в статье Вадима Черноброва «Древние боги требуют жертв» вдруг появляется абсолютно некорректное утверждение, что первым обнаружил тела погибших летчик Григорий Патрушев, он же, по мнению Черноброва, и передал координаты поисковикам. Далее он приводит информацию о том, что Патрушев вовлек в расследование дела о гибели группы Дятлова своего знакомого работника КГБ («чекиста»), который затем, якобы узнав слишком много о тайне перевала, «застрелился в бане» при загадочных обстоятельствах. К таким же странным смертям автор относит и гибель журналиста Юрия Ярового. Только Чернобров почему-то называет его фотографом: «Очень скоро после гибели группы Дятлова при загадочных обстоятельствах в автокатастрофе вместе со своей женой погиб фотограф Юрий Яровой, снимавший тела погибших». Яровой действительно погиб в автокатастрофе вместе с супругой. Но это случилось не «очень скоро», а двадцать один год спустя, в 1980 году.
С какого-то момента стало общим местом переводить с мансийского название горы Холатчахль (она же высота «1079») как «Гора мертвецов». Якобы это место, где постоянно гибнут все, кто посмел там оказаться. И вот уже РЕН ТВ снимает документальный фильм «Громкое дело. Гора мертвецов». Хотя более корректным переводом, как замечают местные жители, является все же «Мертвая вершина». Словосочетание, обозначающее всего лишь место, лишенное растительности.
Несколько лет назад вдруг неожиданно появились данные об одиннадцати телах (вместо девяти), которых привезли с места трагедии в морг города Ивделя в 1959 году. Оказывается, кто-то из исследователей нашел и расспросил очень пожилую женщину – Марию Ивановну Солтер, работавшую медсестрой в 1959 году и готовившую тела дятловцев к вскрытию. Разразилась было сенсация, но Евгений Буянов, апологет лавинной версии, нашел и проинтервьюировал саму Солтер и ее мужа, который прекрасно помнит те события. Как пишет Буянов, выяснилось, что «Солтер в рассказах всегда имела в виду 10 дятловцев (включая Юдина), которых она видела в Ивделе в начале похода. „Лишней“ здесь по всем признакам оказалась погибшая девушка не из группы Дятлова, которая поступила на санитарную обработку вместе с Колмогоровой в самой первой партии из 3-х погибших… Вот эта девушка и плюс 10 дятловцев, включая Юдина, и дают эту непонятную цифру „11“».
В части генерации ошеломляющих деталей не отставали от исследователей и поисковики, казалось бы, самые что ни на есть настоящие очевидцы, наблюдавшие палатку, тела и другие улики своими собственными глазами. Например, Михаил Шаравин, один из тех, кто вместе с Борисом Слобцовым первым обнаружил стоянку дятловцев, а затем и трупы Дорошенко и Кривонищенко у кедра, вдруг, ни с того ни с сего в одном из интервью стал утверждать, что труп Кривонищенко был укрыт одеялом. И даже более поздние его попытки дезавуировать это высказывание, взять свои слова назад роли уже не играли. А ведь одеяло – это несомненный индикатор присутствия посторонних. И часть исследовательского сообщества с удовольствием включило этот «факт» в умозаключения, подтверждающие их теории.
Как результат, вокруг места гибели группы формируется целая экосистема, в рамках которой, как водится, происходит получение славы и зарабатывание денег. Это не только организация туристических экскурсий на перевал на любой кошелек, но и сотни каналов на различных видеохостингах, тысячи страниц в социальных сетях. Каждый автор имеет свою точку зрения на трагедию и соответствующую аудиторию, которая поощряет их материальные вливания в виде пожертвований и нематериальные – в виде личной известности и репутации. Само собой, такое положение дел осложняет движение в сторону действительного установления причин трагедии. Можно предположить, что откровенно одиозные и фантастические версии могут быть связаны как раз с желанием получить «минуты славы». Привлечение новых туристов, желающих посетить место гибели группы Дятлова, равно как и желание добавить подписчиков на свой канал, – явление абсолютно закономерное и понятное. Однако это входит в противоречие с желанием заинтересованных приблизиться к разгадке причин трагедии энтузиастов.
Если сравнивать текущее состояние дел с 1959 годом, то стоит признать, что современные исследователи находятся в гораздо более выгодном положении, чем их предшественники, имея доступ к материалам уголовного дела и воспоминаниям. Однако именно из современной жизни, как кажется, и произрастают мифологические версии о возможном влиянии «золотой бабы» (полностью золотого идола манси, ради которой и был затеян поход, а ребята погибли в борьбе за эту драгоценность); о ритуальном убийстве туристов шаманом; о том, что поход на самом деле был операцией спецслужб в стиле высокобюджетного боевика из серии про агента 007; о мафии золотодобытчиков, которой перешел дорогу Игорь Дятлов. Каждая эпоха добавляет свой набор мифологических штампов.
Четыре мифа
Вообще, процесс мифологизации объективен, и это касается всех событий прошлого. Однако в целях информационной гигиены стоит иметь его в виду, не допуская полноценного погружения внутрь стандартного мифологического сюжета при рассмотрении событий на перевале и ее основных участников. Какой бы ни была кажущаяся многовариантность версий трагедии, в своей сути они представляют собой проигрывание приблизительно одного и того же набора архетипических сценариев, или типовых сюжетов.
Знаменитый аргентинский поэт и публицист Хорхе Луис Борхес в своем эссе «Четыре цикла» утверждал, что все сюжеты мировой литературы можно условно разделить на четыре типа. Используем их и мы, чтобы сделать беглый анализ основных сюжетов версий, которые стали общеупотребительными в деле загадки гибели туристов.
Первый тип сюжетов: о штурме и обороне укрепленного города. Суть его по Борхесу такова: город атакуют враги, а бесстрашные горожане защищают его, осознавая, что в битве им не выжить. Первой и самой древней реализацией данного сюжета стала «Иллиада» Гомера. Вовсе не обязательно, что должен быть реальный город и реальные враги с копьями и пушками под его стенами. Чацкий у Грибоедова, бросая вызов Фамусовым, также вполне попадает в эту категорию.
В этот сюжет вписываются криминальные, техногенные, природные версии трагедии, когда группа Дятлова противостоит людям, природе или технике. Неважно, происходит ли это во время испытаний или природная стихия врывается в мирную палатку в виде, скажем, лавины или снежной доски, а может, и злокозненного НЛО. Или группу неожиданно атакует отряд высокопрофессиональных «третьих лиц», спасаясь от которых туристы обустраивают импровизированный укрепрайон на косогоре в районе кедра. Главное, что они пытаются спастись, отстаивая свой «город», свое пространство, с практически нулевыми шансами на успех.
Не только поисковики, но и родители погибших не сомневались в том, что их дети получили увечья во время отчаянной борьбы за жизнь. Отец Люды Дубининой утверждал, что «внезапное бегство из палатки произошло вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы „1079“, „начинка“ которого вынудила бежать от нее дальше и надо полагать повлияла на жизнедеятельность людей и в частности на зрение». Отец Юры Кривонищенко в своих показаниях в уголовном деле также обращает внимание на излучение и относит это на счет какой-то ракеты, после которой ребята из группы Дятлова ослепли: «Рассказывают те же студенты, что костер у кедра погас не от недостатка топлива, а потому, что топливо перестали подкладывать. Это тоже, очевидно, могло быть или потому, что люди бывшие у костра не видели, что надо делать, или потому, что они были уже слепыми…»
Есть огромное количество вариантов версий и вариаций про лавину или снежную доску, после схода которой туристы погибли. Равно как существует и бессчетное количество криминальных версий, в которых группа Дятлова противостоит, но гибнет от рук напавших на нее убийц.
Второй тип сюжетов: о долгом возвращении. Здесь примером может служить не только «Одиссея» Гомера, но и большое количество классических историй о путешествиях, поисках себя. Опять же, не факт, что путешествие должно быть в виде постоянного физического перемещения, как, скажем, в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова или в знаменитом голливудском фильме «Зеленая книга», это вполне может быть и нравственный путь.
Какие же мифы-версии могут быть созданы с использованием данного сюжета, ведь никто не вернулся, а все туристы погибли? Не совсем так. «Одиссеем 1959 года» выступает Семен Золотарев, который в рамках некоторых версий оказывается тем, кто, набрав множество разного рода жизненных долгов, наконец рассчитывается с ними, инсценировав собственную смерть. А затем то ли уходит вместе с дружками за пределы СССР, то ли остается жить под чужой «личиной». Труп же в ручье – это какой-то подставной человек. В таких версиях упор обычно делается на предысторию Семена. Как мы уже разбирали в предыдущих главах, обычно указывают на его возможную работу в качестве агента КГБ, ЦРУ, специальную подготовку во время войны, раскапывается его прошлое, «грешки» родственников (брат Николай, который, по некоторым данным, работал полицаем по время войны и т. д.).
Третий тип сюжетов: о поиске. Классическим примером, упомянутым Борхесом в «Четырех циклах» при описании этого сюжета, является греческий герой Ясон, ищущий золотое руно. Конечно, все истории о поиске «Святого Грааля» подходят сюда. В широком смысле объектом поиска может выступать любой предмет, обладающий великой ценностью, который чрезвычайно трудно заполучить. Реализация сюжета варьируется от вполне конкретных «двенадцати стульев» до родной фразы из народных сказок: «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Само собой, здесь же находится и поиск заведомо нематериальных артефактов: от «ума» и «смелости» в «Волшебнике Изумрудного города» до какого-либо фундаментального открытия или эксперимента.
В этой связи встречается тип версий, которые основываются на том, что группа Дятлова на самом деле шла за какой-то ценностью («золотая баба» – идол манси, «золото старателей» и т. д.). Даже утверждают, что Юрий Юдин и покинул группу, чтобы забрать ее и тайно переправить в Свердловск. Это якобы и объясняет его поспешный сход с маршрута, а остальные туристы пошли дальше исключительно для вида, отводя подозрения наблюдавших за ними злодеев, которые все же расправились с группой впоследствии. Юдину же удалось унести с собой ту самую ценность, и он жил под гнетом этой тайны всю жизнь. В качестве злодеев-убийц в некоторых версиях могут выступать и шаманы манси, отомстившие туристам за кражу их реликвии.
Наконец, четвертый вид сюжетов – это сюжеты о самоубийстве бога. Истории о древнескандинавском боге Одине, древнегреческом Прометее, Иисусе и даже Данко Горького – это сюжеты, где герой стремится стать чем-то большим, чем он есть, познать смысл жизни, спасти мир и готов пожертвовать собой ради всеобщего блага.
Что касается трагедии на перевале, то первым конструктором подобного мифа оказался журналист Юрий Яровой, прибывший в марте 1959 года на место трагедии освещать процесс поисков пропавших туристов. Однако вместо сухого отчета или статьи в газете в результате он выпустил художественное произведение под названием «Высшей категории трудности», в котором он представил авторское видение трагедии. В своей повести Яровой сохранил жизни всем участникам похода, кроме Игоря Дятлова, которого он вывел там под именем Глеба Сосновского. По сюжету группа туристов под руководством Сосновского из-за внезапного приступа паники у одной из участниц похода, Нели Васениной, покинула палатку, а ураганный ветер не дал им вернуться назад. Более того, девушка на скалах получила серьезную травму. А добраться до палатки необходимо, ведь там остались медикаменты, которые помогут раненой. Глеб Сосновский отдает распоряжение группе спускаться к охотничьей избушке, сообщив ее координаты, а сам в экстремальных погодных условиях отправляется назад к палатке ради спасения Васениной. Остальные же члены группы, словно апостолы, в ответственный момент отрекаются от Глеба, соглашаются с его решением, фокусируются на помощи девушке и в итоге прячутся от непогоды в указанной руководителем избушке. Глеб Сосновский гибнет, и так получается, что как будто на каждом из участников похода лежит вина за его смерть.
В этом же сюжетном ключе выполнены и многочисленные версии, полагающие, что группа Дятлова, находясь на 2-м Северном или 41-м участке, оказалась свидетелем какого-то нарушения закона. В частности, мне попадались версии о незаконной добыче золота. В таких сценариях Игорь Дятлов отправляет «надежного товарища» Юдина в Свердловск с доказательством преступления (несколько килограммов незаконно добытого золота), а сам, благородно ничего не сообщив девушкам, «берет огонь на себя», уводя вместе с группой в горы погоню из разгневанных «черных золотодобытчиков». В конце концов золотодобытчики настигают и убивают туристов. А Юдин, не успев спасти товарищей, так и остается жить с чувством вины.
Созданию подобных сюжетов, безусловно, способствовал процесс идеализации Игоря Дятлова. Во множестве воспоминаний, записанных после гибели группы, он выглядит как чрезвычайно незаурядный человек и харизматичный лидер.
Игорь Дятлов с 1957 года был председателем совета Студенческого научного общества института. В январе 1959 года начал работать ассистентом на полставки на профильной кафедре, и после окончания института он, по всей видимости, мог сделать неплохую научную карьеру. По воспоминаниям родных и близких, Игорь был увлечен техникой. Сестра Дятлова, Татьяна, вспоминает: «У брата была светлейшая голова. Когда в октябре 1957-го в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник, Игорь собрал телескоп, стал забираться с ним на крышу дома и наблюдать оттуда за звездным небом».
Евгений Зиновьев, в 1959 году – студент четвертого курса металлургического факультета УПИ и участник поисковых работ, описывал Дятлова следующим образом: «Этот долговязый парнишка, нескладный с виду, с далеко не красноречивым выговором, обладал поистине феноменальными способностями в области радиотехники. Уже в 15 лет он делал довольно сложные приемники и магнитофоны. Будучи студентом УПИ, он поражал преподавателей своими способностями, и можно уверенно сказать, что наука в его лице приобретала достойного сына. Игорь был скромным человеком, которого меньше всего интересовали вечера, игры, девушки короче говоря, все то, что люди называют «культурным времяпровождением». Эту сторону жизни у него отнимал туризм. За годы института он основательно исходил Урал, ряд его фотографий помещены в книге Р. Б. Рубель и Е. П. Масленникова „Путешествия по Уралу“».
Моисей Аксельрод также отзывался об Игоре в превосходной степени: «Это был открытый, самоотверженный, добрый товарищ, серьезно относящийся к достойным серьезности вещам, умеющий внести, там, где нужно, разрядку дозой юмора и т. д. В группе он пользовался большим уважением за вышеуказанные качества, за физическую выносливость, за туристический опыт, за готовность в любой момент к выполнению любого дела. <…> Долгие дни и ночи, вечера, проведенные у костра, привели к тому, что мы с Дятловым стали друзьями. Моим другом стал человек, который, кроме серьезного отношения к туризму (в чем мы с ним сошлись), очень серьезно относился к жизни во всех ее проявлениях (книги, учеба, наука – особенно, искусство)». Более того, Аксельрод отметил и следующие особенности характера Игоря: «К личным качествам Игоря я бы отнес его открытое выражение многих чувств, таких как восторг, удовлетворение, радость».