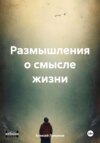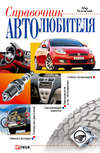Читать книгу: «Группа Дятлова: поход в вечность», страница 12
«Саша»
Куда более серьезно изучается биография другого участника группы Дятлова – Семена Золотарева. Восстанавливаются документы, фотографии, опрашиваются родственники, находится новая информация о его жизни. Многие исследователи резонно или нет, но полагают, что именно Золотарев – это ключ к решению загадки гибели группы Дятлова.
Семен Золотарев родился в станице Удобная 2 февраля 1921 года. И если опираться на официальную версию, то погиб прямо в свой день рождения – 2 февраля 1959 года.
По информации ресурса «Память Народа», в октябре 1941 года Золотарев был мобилизован. Служил в инженерных войсках, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Командир полка подполковник Щукин в наградном листе от 26 апреля 1945 года на представление Золотарева к ордену Красной Звезды следующим образом описывает совершенный Семеном подвиг: «Старший сержант Золотарев С. А. под артиллерийским и минометным огнем противника перевозил с расчетом 9 человек в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года понтоны с верхним строением на один 50-тонный паром. Прибыв на место сборки парома, т. Золотарев быстро и умело стал собирать паром. Противник начал обстреливать это место из орудий, минометов и пулеметов. Был ранен один боец, но старший сержант Золотарев не прекратил работу, а сам занял место вышедшего из строя бойца и своим примером бесстрашия воодушевлял бойцов на скорейшее выполнение задания. Этим же снарядом было перебито два прогона и настил. Метрах в 300 в болоте лежало верхнее строение от разбитого парома, тогда т. Золотарев по пояс в воде дошел до него. Красноармеец Корнеев без приказа пошел за ст. сержантом Золотаревым и вместе пригнали понтоны к собираемому парому. Задание было выполнено в срок и паром был введен в линию моста, что обеспечило своевременный пропуск грузов и танков на противоположный берег…»
Фронтовик Золотарев, видимо, воевал неплохо. Я позволил себе привести наградную запись почти полностью в связи с двумя моментами, в которых мы можем увидеть характер Семена. Золотарев заменил собой раненного товарища, и его подчиненный без приказа пошел за ним в прямом смысле в «огонь и воду». А ведь события происходили в то время, когда сам Золотарев был немногим старше ребят из группы Дятлова, в чей коллектив он неожиданно влился в январе 1959 года, заменив, как мы помним, Вячеслава Биенко. Здесь можно добавить то, что упомянутый подчиненный Золотарева по итогам описанного военного эпизода был представлен к ордену Славы третьей степени.
По церковной метрике имя Золотарева было Семен (точнее – Симеон), однако он, знакомясь с новыми людьми, просил называть его «просто Сашей». Довольно часто бывает так, что человек, переходя на уровень более близкого общения, просит называть его коротким, менее формальным именем. Александры, находясь в тесном дружеском кругу, могут оказаться Сашами или Шурами, а Дмитрии в определенных обстоятельствах вполне могут одобрить переход на панибратские «Дима» или «Митя». Складывается впечатление, что «Сеня», стандартное сокращение от «Семена», чем-то не устраивало Золотарева, поэтому он использовал, возможно, более благозвучное для него имя Саша. Причем так называл он себя и в кругу семьи. Вдумчивые исследователи изучили полученные от родственников Золотарева личные фотографии. На некоторых из них сохранились приветственные подписи на обороте, где Золотарев подписывался «Саша».
Например, на фотографии от 1950 года, запечатлевшей встречу Семена с его двоюродными сестрами, можно прочесть надпись, сделанную рукой Золотарева: «Память нашей встречи в г. Москве, брата Саши, после окончания института 1950 года. Сестры Дуся, Аня, брат Саша. 1950 год». Только на обороте одной из имеющихся в открытом доступе фотографий, где Семен позирует с другом-однополчанином в мае 1945 года, Золотарев подписался как «Сеня».
Из изучения доступных фотографий Золотарева и подписей на них кажется перспективной идея рассматривать «Сашу» в качестве уменьшительного имени, производного от «Семен». Само собой, без посещения краснодарских станиц и опроса стариков сложно понять, была ли в этом закономерность того времени или просто особенность отдельно взятой семьи или человека.
Как бы то ни было, но такая «игра имен» вводила в заблуждение. Так, Люда Дубинина в своем дневнике 23 января делает запись: «На сей раз было много очень новых песен, которые мы тянули с помощью инструктора Золотарева А., идущим вместе с нами в поход». И Зина, уже в своей тетрадке, 24 января также отмечает: «Вчера целый вечер до 3-х часов пели песни. С нами ст. инструктор Коуровской турбазы Александр Алексеевич Золотарев».
Эксперт Возрожденный уже в совершенно официальном документе, акте исследования трупа Золотарева от 9 мая 1959 года, не сомневаясь пишет: «…в помещении морга санчасти п/я № 240, при дневном освещении произведено исследование трупа гр. Золотарева Александра Алексеевича, 37 лет, для установления причины смерти». И гистологические анализы на установление прижизненности травм также производились с фрагментами костей и тканей некого «Золотарева А. А.».
Безусловно, Зина и Люда могли самостоятельно мысленно произвести «Сашу» в «Александры», но акты исследования тела – это официальный документ, под которым стоит подпись не только Возрожденного, но и следователя Иванова. Очевидно, что Золотарев не представлялся Возрожденному «Сашей». Видимо, судмедэксперт сам каким-то образом заполнил пробел с именем покойного, которого он осматривал на секционном столе. Однако если дело обстояло так, то странна эта самодеятельность. К маю 1959 года должны быть исследованы личные вещи, а главное, документы Золотарева, оставленные последним в доме Согрина перед уходом с группой Дятлова.
Изначально Золотарев должен был идти в поход именно с группой Сергея Согрина. В этой связи есть версия, что рекомендация Согрину взять в поход Золотарева поступила от руководителя секции УПИ Виктора Богомолова, который познакомился с Золотаревым в 1956 году на алтайской туристической базе «Артыбаш», где Семен был инструктором по туризму. Вторая их встреча произошла уже 1958 году. В то время Золотарев уже работал на Коуровской турбазе, находящейся примерно в восьмидесяти километрах от Свердловска.
Евгений Зиновьев, турист из группы Сергея Согрина и участник поисковых работ, вспоминал первую встречу с Золотаревым в доме Согриных следующим образом: «Вдруг Сергей привел в комнату довольно непривычного человека с кавказской внешностью и представил: „Семен Золотарев, просится в наш поход!„“Зовите меня просто Саша!“ – сказал этот кавказский Семен, сверкнув золотыми зубами, что для нас тоже было непривычным. Семен был значительно, лет на 15 старше нас, но мы не придали этому значения. Узнав, что он инструктор Коуровской базы, а этот поход ему нужен для выполнения нормы мастера спорта по туризму, мы дали свое добро». Таким образом Золотарев влился в группу Согрина, жил у него дома и участвовал в подготовке похода. Позднее, узнав, что группа Игоря Дятлова тоже идет в поход третьей категории и он короче на десять дней, Золотарев присоединился к дятловцам. Об этом событии в дневнике Люды Дубиной есть следующая запись: «Этого Золотарева никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать – не откажешь».
Несмотря на понятные причины перехода Золотарева из группы Согрина в группу Дятлова, участник поисков Владислав Карелин во время допроса заметил о Золотареве: «…вообще его появление в составе группы Дятлова мне кажется неестественным».
Два капитана
Судя по воспоминаниям, Семен был дружелюбный, открытый, общительный человек. Он легко находил общий язык с новыми людьми. Да и не странно это. Он прошел многие турбазы СССР от Алтая до Урала, где в качестве инструктора должен был быстро сходиться с людьми разных профессий и возрастов, прибывающими на отдых по путевкам.
Владислав Биенко вспоминает: «Золотарев сразу всем полюбился. Был он парень общительный и веселый. Легко сходился с любым. Знал много туристских и лагерных песен. Он легко вписался в дятловский коллектив. Особенно подружился с Николаем Тибо. Они были неразлучны». И Юрий Юдин также подтверждал, что Золотарев «вписался в группу. Я с ним общался только в поезде, когда ехал. Очень симпатичный, пел…»
Относительно более близкого общения с Колей Тибо, о котором упоминал Биенко, то действительно на фотографиях с маршрута они часто находятся вместе, смеются и с видимым удовольствием фотографируются, позируют, меняются головными уборами.
Евгений Постоногов, работавший вместе с Золотаревым на Коуровской турбазе, отвечая на вопрос о личных качествах Семена, вспоминает зимний «инструкторский» поход в декабре 1958 года, которым руководил Золотарев.
Особенностью такого типа походов было то, что туристы-инструкторы не брали с собой палатку или печку, а весь маршрут был распланирован так, чтобы ночевать только в населенных пунктах. Будучи в пути, группа попала в экстремальные погодные условия, когда температура воздуха упала до минус пятидесяти градусов. В этой ситуации часть туристов высказалась за то, чтобы прекратить поход и остаться в населенном пункте. Назревал конфликт. Постоногов описывает поведение Золотарева как руководителя группы следующим образом: «Семен дал всем участникам похода высказаться, нас было где-то 12 человек, два человека не хотели продолжать поход при такой температуре. Семен всех спокойно выслушал, мы проголосовали. Сказал, что все пойдем дальше. Никого оставлять не будем. Договорились все без окриков и обид продолжать поход».
Однако на этом перипетии экспедиции не закончились. Уже вечером, в темноте, группа сбилась с маршрута. После долгих блужданий по глубокому снегу всем пришлось ночевать в счастливо подвернувшемся домике лесорубов. По воспоминаниям Постоногова, Золотарев и в той непростой ситуации опять проявил себя с лучшей стороны: «Когда мы нашли пустую избушку лесорубов (они не работали по причине экстремальных температур), ворвались в нее, растопили печь, согрелись, успокоились. Семен нами занимался как отец родной. Накормил вкусным горячим обедом из тушенки. Я считаю, что благодаря его дружественному спокойному отношению ко всем, мы успокоились, не поссорились и закончили поход. Обошлось без потерь. Что группа не распалась после похода при такой суровой температуре и сильной усталости, в этом была целиком его заслуга».
Изучая эти эпизоды, имеет смысл обратить внимание на особенность проявления лидерских качеств Золотаревым в экстремальных ситуациях. Согласимся, что ситуация в «инструкторском» походе пусть и отдаленно, но напоминает военный эпизод, за который Семен был награжден орденом.
В обоих случаях Золотарев не использует формальную власть, а опирается на личный пример и старается сохранить доверие. Так, в апреле 1945 года он мог бы просто приказать бойцу своего отделения следовать за собой. Однако он в той опасной ситуации не раздумывая заменяет собой выбывшего раненного солдата, тем самым мотивируя своим примером оставшихся бойцов. И тут же, как мы помним, солдат Киреев сам, без приказа, бросается Семену на помощь. В «инструкторском» походе, будучи руководителем группы и самым старшим по возрасту, Золотарев мог бы настаивать на своем мнении в вопросе продолжения похода и, возможно, тем самым расколол бы коллектив. Однако он открыто вовлек коллег-инструкторов в принятие решения о дальнейшем пути и тем самым сохранил атмосферу доверия. А в создавшейся затем экстремальной ситуации, когда группа сначала заблудилась, а потом отыскала-таки ночлег, Золотарев поддерживал остальных своим примером, спокойным и доброжелательным поведением, осознанно работая на сохранение единства команды.
По воспоминаниям многих, у Игоря Дятлова был иной, прямо противоположный лидерский стиль.
Сергей Согрин утверждал, что Игорь старался быть безоговорочным авторитетом: «Целеустремленный, волевой и сильный турист. Серьезно готовил походы, продумывал тактику и все мелочи, детали маршрута. Это, видимо, ему давало право и в силу его характера быть достаточно жестким руководителем. Мне этот авторитарный стиль руководства не очень импонировал. Он не терпел возражений и других мнений».
Турист Борис Бычков в воспоминаниях о походе под руководством Игоря в 1957 году характеризует лидерский стиль Дятлова следующим образом: «Дисциплина в этом походе, а друзья рассказывали и в других тоже, у Дятлова была „железная“. Кстати, это его любимое слово: „в поход взять железный, шерстяной свитер“, – напутствовал он на собрании перед походом. „Железная“ дисциплина была почти военной. Приказы не обсуждались. Порицания или поощрения – при всех, как перед строем. Но все понимали, что только так и должно. Сам Игорь выделялся из всех только тем, что больше на себя брал: дольше торил лыжню, больше нес в рюкзаке, ночью подтапливал печку, первым вылезал из палатки».
Журналист Григорьев, присутствуя на поисках, внимательно слушал и записывал воспоминания студентов-поисковиков о погибших ребятах. Одну из записей в своем блокноте он посвятил Игорю Дятлову: «…сказали, что И. Дятлов очень самолюбив, любил командовать. Раз предложил отряду идти с одного берега реки беспричинно перейти на другой. И это беспричинно. Однажды все так возмутились его поведением, что не стали выполнять его команду. Тогда он ушел ото всех и объявил голодовку. Рядовым он в отряде был хорошим, исполнительным. Все ошибки приписывали ему».
Из анализа дневников мы видели, что, будучи, по отзывам, сторонником «жесткой руки», Дятлов почему-то изменил своему стилю в трагическом походе. Сразу вспоминаются поздние подъемы, проблемы с дежурством и низкой скоростью прохождения маршрута. Возможно, источником таких изменений в поведении Игоря могло стать присутствие более опытного и взрослого Золотарева.
Тут мы подходим к рассмотрению первой «претензии», выдвигаемой Семену современными исследователями. Будучи чужим в группе, рассуждают они, опытный Золотарев мог размывать авторитет Игоря, «перетягивать одеяло на себя» и в итоге расколоть группу на две части в ситуации экстремального выбора. В таком случае нет ничего удивительного в том, что группа перед гибелью разделилась. Часть ребят (Люда, Коля и Саша Колеватов) поддержали неформального лидера, а оставшийся коренной состав группы выбрал Игоря. Именно так сторонники версии конфликта объясняют четкое деление найденных тел на группы. Хотя непонятно, как быть в этом случае с Кривонищенко и Дорошенко. Они же остались у кедра, то есть как бы в нейтральной зоне.
Кроме того, заблуждением было бы считать, что только Золотарев лишал группу Дятлова монолитности по основанию возраста и опыта. Даже и без него состав не был единообразным. В группе были не только студенты УПИ (Дятлов, Дорошенко, Дубинина, Колеватов, Колмогорова, Юдин), но и уже работающие выпускники (Тибо-Бриньоль, Кривонищенко, Слободин). Как бы подтверждая различия между этими микро-группами, Люда Дубинина записала в своем дневнике: «…Рустик с Колей рассуждали понемногу обо всем, о работе и т. д. Вообще мне нравятся вот эти ребята. Большая разница между ними, окончившими институт Рустиком, Ко, Юрой и нами. Все-таки у них суждения наиболее зрелые и умнее гораздо наших. Господи я уже вообще не говорю о своих…»
Действительно, существует большой соблазн представить трагедию на перевале как последствие конфликта внутри группы Дятлова. И приверженцев такого развития событий немало. Начавшаяся ссора, вне зависимости от причин, конечно, могла способствовать разделению коллектива на две фракции, каждую со своим лидером. И, как следствие, этот раскол мог привести к внутреннему противостоянию.
Однако представляется, что это очень теоретические соображения.
Во-первых, вопросы групповой динамики шестидесятилетней давности являются весьма сложным делом для анализа. Поэтому реконструкция событий без каких-либо твердых оснований (а их у нас нет) выглядит не очень продуктивным делом.
Во-вторых, привлекательная гипотеза о «большом конфликте» в группе никак не приводит нас к ответу на ключевые вопросы, которые касаются: а) причин ухода со стоянки на Ауспии за два часа до окончания светового дня; б) странного решения по установке палатки на склоне высоты «1079» и дальнейшего ее оставления; в) механики получения смертельных травм тремя туристами; г) обстоятельств попадания тел четырех туристов в ручей.
В-третьих, если конфликт в группе перерос бы, скажем, в драку, то вряд ли в коллективе нашлись бы профессионалы по нанесению сложных смертельных ран. Ребята были очень молодые, и набраться таких знаний, а самое главное, опыта им было просто негде. Таким профессионалом теоретически мог быть Семен Золотарев. Однако именно он, судя по травмам, был одним из объектов применения этих редких умений.
В-четвертых, в бытовых конфликтах обычно используются простые и доступные средства, такие как кулаки, тяжелые ветки, камни, которые оставляют вполне определенные следы и травмы. Однозначных следов применения подобных предметов обнаружено не было.
В-пятых, еще одной особенностью такого типа конфликтов является то, что погибают получившие действительно тяжелые травмы, а вот менее травмированные участники драки выживают. Говоря по-простому, наличие и тяжесть травм определяет судьбу сторон такого конфликта. Никаких загадок. Однако в нашем случае есть, скажем, Колеватов, который оказался вместе с тремя травмированными участниками похода в ручье, но никаких смертельных или тяжелых повреждений у него не обнаружено. Ровно то же самое можно сказать и про четверых из первой найденной «пятерки» туристов (Кривонищенко, Дорошенко, Дятлов, Колмогорова). Они не имеют тяжелых травм, которые могли бы стать причиной смерти.
С определенной долей уверенности можно утверждать, что Золотарев был харизматичным лидером и человеком, за которым шли люди: боец его отряда, коллеги по Коуровской турбазе. Действительно, такой турист мог бы стать конкурентом Игорю, и понятен соблазн «повесить» на Семена разлад в группе. Однако такая версия не объясняет всей картины происшествия и не приносит желаемого решения загадки трагедии.
Конечно, можно предположить ситуацию внешней угрозы, при которой Золотарев мог лишить группу монолитности, разделить ее и тем самым снизить общий уровень сопротивляемости. Но и такой вариант опять не заводит нас дальше пустого теоретизирования. Определение ролей участников группы в случае смертельной внешней угрозы – дело вторичное, а первичным была бы идентификация той самой угрозы.
«Шпион выйди вон!»
Еще одна «претензия» к Золотареву заключается в том, что, возможно, он был не тем, за кого себя выдавал. Решающим доводом в этом вопросе являются, по мнению многих, таинственные татуировки Семена.
Напомню, что описание татуировок на теле Золотарева, сделанное в морге, выглядело следующим образом: «На тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка ГЕНА. На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы и букв + С, на тыле левого предплечья татуировка с изображением Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, пятиконечная звезда и буквы С, букв Г + С + П = Д и цифры 1921 год». В качестве подтверждения их существования кроме актов судмедэкспертизы имеются фотографии тела из морга, на которых исследователи с хорошим зрением могут разглядеть загадочные татуировки.
Много лет бьются исследователи над расшифровкой этих надписей. А коллеги Золотарева по Коуровской турбазе не подтверждают наличия у него вообще каких-либо татуировок. Например, упоминавшийся ранее коллега Золотарева Евгений Постоногов вспоминает: «Во время походов мы ночевали в избах. Там везде рукомойники. Емкости, в которые сверху воду заливаешь, а внизу что-то типа клапана. Дергаешь эту пипку вверх, и вода льется. Семен, как и все мы, закатывал рукава, чтобы не забрызгать их. Я видел его руки. Татуировки не пропустил бы». Да и не было у Постоногова необходимости наблюдать Золотарева при умывании. Достаточно было с ним просто обменяться приветственным рукопожатием, ведь татуировка «ГЕНА» по описанию судмедэксперта Возрожденного находилась у основания большого пальца правой руки. Современные исследователи нашли и опросили родственников Золотарева. Однако и они были удивлены наличием у него не только татуировок, но и зубных коронок, которые также описал эксперт Возрожденный. Алла Боровиковская, племянница Семена, сообщила, что «татуировок на руках у Семена не видела и зубов металлических у него не помнит». Другая его двоюродная племянница, Наталья Золотарева, дает такую же информацию: «Мой папа не помнит у Семена татуировок и зубов металлических не помнит. Папе было 14 лет, когда он видел Семена в последний раз». Исследователь Валентин Дегтерев предложил интересную расшифровку загадочной татуировки. По его версии, Золотарев перед гибелью сам сделал себе татуировку, в которой зашифровал следующее послание: «ДАЕРММУАЗУАЯ», что означало «удар, замерз, я умер».
Согласимся, что коронки могли появиться в любой момент времени – никто из нас не застрахован от проблем с зубами. Но что касается татуировок, то здесь дело гораздо интереснее. Соединив между собой воспоминания родственниц и коллеги Золотарева, получим, что Семен если и делал татуировки, то в короткий период между увольнением с Коуровской турбазы в конце декабря 1958 года и до выхода на маршрут с группой Дятлова в конце января 1959 года. Или стоит признать, что Золотарев был не тот Золотарев. Само собой, остается возможность того, что память коллег и родственников подвела и по каким-то причинам татуировки не оставили следа в их воспоминаниях.
Отсюда проистекает основной вопрос, который волнует исследовательскую общественность, – кто же был на секционном столе у Возрожденного? И если это был не Золотарев, то когда произошла эта подмена – до эвакуации тел из ручья или уже после? И чье тело похоронено на Ивановском кладбище Екатеринбурга?
Есть версия, что Возрожденному вместо Золотарева тайно подложили другое тело, чтобы скрыть реальные травмы Семена, полученные, например, от огнестрельного или холодного оружия. Исследователи указывают на то, что рядом был лагерь с тысячами заключенных, для которых татуировки были обычным делом. Поэтому на секционном столе у судмедэксперта мог оказаться один из тамошних узников с именем Гена.
Однако и вариант с подменой не выглядит реалистичным. Дело в том, что тело Семена находилось почти три месяца в воде и все признаки этого были зафиксированы Возрожденным. Вряд ли подготовка «подлога» была выполнена настолько серьезно. Конечно, можно также предположить и то, что у «нового» тела были прижизненные переломы ребер. Допустим, не нашлось у проводивших тайные работы другого подходящего варианта, кроме как человека, погибшего в автоаварии. Однако, привлекая «теорию заговора» и «решая» загадку травм и татуировок Золотарева, мы абсолютно не продвигаемся в этом отношении с переломами Люды Дубининой. Найти труп молодой женщины среди заключенных в мужском лагере, да еще с похожими переломами ребер – дело абсолютно бессмысленное и практически невыполнимое! Именно поэтому фокус исключительно на Золотареве в этом вопросе приводит к потере контекста, ведь он был одним из троих тяжело травмированных туристов. Более того, с версией подлога есть еще одна «загвоздка». Дело в том, что Возрожденный лично вылетал на место трагедии после нахождения «четверки» в ручье, где не только участвовал в транспортировке тел, но и провел их предварительный осмотр. Это означает, что он имел возможность более или менее подробно рассмотреть погибших, включая, конечно, и Золотарева. И подложить ему другое тело было бы проблематично еще и по этой причине.
А может быть, все объясняется проще и возникла путаница не с телами, а с документами? Предположим, что на секционном столе у Возрожденного как раз во время осмотра трупов туристов мог оказаться умерший заключенный, скажем, однофамилец Золотарева. Ведь фамилия-то очень распространенная. Далее, уже при перепечатке актов на пишущей машинке, Возрожденный мог запутаться в своих рукописных записях, которые он делал при вскрытии. Таким образом фрагменты описания результатов вскрытия одного Золотарева (заключенного) могли попасть в описание другого, «нашего» Золотарева. Причем фрагменты описания другого Золотарева могли касаться как раз внешнего осмотра тела, в рамках которого и были зафиксированы загадочные татуировки. Однако и такое разгильдяйство выглядит маловероятным событием. Ведь среди таинственных надписей наблюдаются также вполне понятные цифры «1921», которые удивительно совпадают с годом рождения Семена. Просто нереально, чтобы у Возрожденного на вскрытии оказался не только однофамилец Золотарева, но и человек, в судьбе которого цифры «1921» также играли важную роль, раз он их увековечил. Кроме того, эту версию разбивают и фотографии тела, выполненные после вскрытия в морге, на которых можно рассмотреть те самые татуировки.
Фотографии похода указывают, что с ребятами шел действительно Семен. На снимках он опознан всеми, кто его знал, – коллегами, родственниками, бывшими учениками. Любой может в этом убедиться, изучив и сравнив фотографии. Однако и это не убеждает некоторых исследователей. Дошло до того, что на сегодняшний день останки Золотарева являются единственными из всей группы погибших ребят, которые были эксгумированы и исследованы. Основным заказчиком этой работы была «Комсомольская правда» и корреспондент издания Наталья Варсегова. Причем целью процедуры было не только исследование костей и оценка характера травм, но и подтверждение личности туриста путем сличения выделенного из останков ДНК с генным материалом его племянницы.
Судебно-медицинский эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Никитин провел несколько экспертиз с останками Золотарева и получил интересные результаты.
Во-первых, были сопоставлены травмы, описанные в уголовном деле, и травмы, которые можно наблюдать по костным остаткам. В целом Никитин отмечает, что картина травм эксгумированного тела соответствует тому, что было описано при исследовании тела Золотарева в морге Ивделя. Кроме того, Никитин увидел также и перелом лопатки, то есть травму, которую Возрожденный в 1959 году не указал в своем заключении. Еще одним результатом эксгумации стало соответствие состояния зубов (коронок) Золотарева тому, что описывал судмедэксперт. На полях стоит заметить, что по неизвестным нам причинам Возрожденный вообще избегал описания задних частей тел погибших. Возможно, поэтому в актах мы не можем найти травму от поискового щупа на задней стороне шеи Люды Дубининой, о которой вспоминал Владимир Аскинадзи.
Во-вторых, по специальной методике, с помощью фотоналожения, было проведено сличение костных останков эксгумированного черепа с прижизненными фотографиями Золотарева. Такой анализ проходит по специальным точкам-признакам (уши, точки уголков глаз, линия смыкания губ, контуры лица). Результат анализа показал, что с высокой вероятностью в могиле действительно были захоронены останки Семена Золотарева.
В-третьих, по заказу «Комсомольской правды» был проведен анализ ДНК. Эксперты сравнивали ДНК, полученные из костных остатков в могиле, и ДНК близкой родственницы (племянницы) погибшего. Результаты сопоставления ДНК скорее запутали ситуацию. Дело в том, что первый анализ, проведенный в частной лаборатории, показал, что «близкого родства между человеком, захороненным в могиле, и родственниками Семена Золотарева установить не удалось». Для повторного анализа была задействована уважаемая государственная институция – Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, который выдал заключение, противоположное предыдущему: «Вероятность родства составляет 99,66–99,84 процента». Получается, что по экспертизам пока имеем счет 1:1. В настоящий момент все заинтересованные лица ждут результатов работы третьей, контрольной лаборатории.
Наряду с остальными фактами, подозрение у многочисленных исследователей тайны гибели туристов группы Дятлова вызывают фронтовые годы Золотарева. Есть множество попыток восстановить полковую жизнь Семена буквально по минутам. Именно таким образом, например, выявились разночтения, возникшие из сличения данных в архивных документах со сведениями, которые Золотарев предоставлял о себе в автобиографиях. Исследовательница Галина Сазонова выявила несколько подобных неувязок.
Например, она обратила внимание, что при вступлении Золотарева в ряды коммунистической партии в протоколе собрания партийного бюро указано, что при ответе на вопрос относительно участия в боевых действиях и полученных наградах он ответил, что в войне участвовал и награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Действительно, как мы помним, такой орден у Золотарева был. Но вот с медалью вышло неудобно. Подобной награды у него не было.
Далее исследовательница проанализировала фронтовой путь Семена и вскрыла любопытные несостыковки, сравнивая информацию из архивов с собственноручно заполненным Золотаревым регистрационным бланком члена КПСС. В частности, выяснилось, что указанные им периоды службы в конкретных подразделениях не совпадают с датами их формирования или ликвидации. Хотя наименования войсковых соединений и частей указаны корректно.
Разночтения в боевом пути Золотарева 1941–1942 гг

Стоит добавить, что подобные несостыковки относятся только к периоду 1941–1942 гг. С декабря 1942 по май 1945 года разночтений не обнаружено.
Исходя из этого, различными исследователями делаются весьма смелые выводы о том, что Золотарев мог сознательно скрывать информацию о своей службе, предоставляя полуправду. Якобы такие несостыковки дают понять, что Семен мог проходить обучение в составе секретных подразделений специального назначения, выполняющих диверсионные задачи на оккупированных врагом территориях. Обращается также внимание на то, что после войны в анкете при поступлении в Минский институт физической культуры Золотарев указал, что владеет немецким, польским, белорусским и украинским языками. «Не явились ли диверсионные операции в тылу врага основой, позволившей ему стать настоящим полиглотом?» – задаются вопросом исследователи.
Некоторые обращают внимание на то, что во время войны уж слишком часто Семен менял воинские подразделения, как будто его специально перебрасывали службы госбезопасности. Это позволяло ему, по их мнению, выполнять самые щекотливые и сложные задания. Например, Алексей Ракитин в своей книге отмечает: «…Золотарева чья-то невидимая рука заботливо переводила из одного соединения в другое каждые три месяца, можно сказать со 100 %-ной уверенностью, что Семен Александрович был далеко непростым старшим сержантом. Было в нем нечто такое, что делало его в глазах начальства человеком особым. Причем, речь идет о начальстве высоком – уровня штаба фронта, поскольку Золотарев спокойно перемещался между соединениями фронтового подчинения, но при этом за пределы 2-го Белорусского фронта не выходил». Однако оппоненты такой точки зрения парируют, что Золотарев, служивший в инженерных войсках, вполне мог оказываться прикрепленным со своим подразделением к различным войсковым формированиям. Очевидно ведь, что если он и его сослуживцы занимались, в частности, возведением мостов и наведением переправ, то они могли бы временно придаваться тем частям, которые водные препятствия и форсировали. Отсюда и частые переходы из подразделения в подразделение, проходившие, возможно, только лишь на бумаге. Дотошные исследователи даже раскопали факт того, что брат Семена, Николай, возможно, служил полицаем во время фашисткой оккупации. Это следует из найденного в архивах партийного документа, где Семена отчитывают за то, что он скрыл факт работы родного брата на врага.