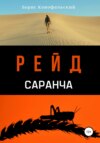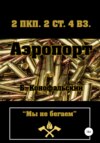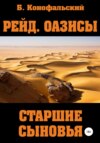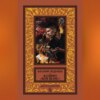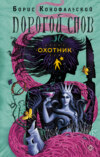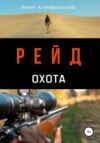Читать книгу: «Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта», страница 6
III
Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет…
Иван Ильин. «Поющее сердце»
За акматической фазой следует фаза надлома – самая трагическая, но и самая короткая (150–200 лет) пора жизни этноса. По словам Гумилева, трагичность этого периода связана не столько с обилием крови, сколько с тем, что льется она в братоубийственных конфликтах.
К началу надлома внутренние противоречия накапливаются. Идея необходимости перемен становится практически всеобщей, но конечный результат и пути его достижения все видят по-разному: «каждый предпочитает заставить другого жить по-своему, а не искать компромисса. Дивергенция становится неизбежной. Оставшиеся в живых пассионарии примыкают либо к одной, либо к другой группировке и таким образом истребляют друг друга в гражданских войнах, являющихся неизбежным атрибутом фазы надлома» [26].
В Византии надлом прошел под знаком иконоборчества. В этот период внутренняя борьба шла на фоне постоянных внешних войн, восстаний и переворотов. Византийская империя уменьшилась территориально, но вышла из глубокого кризиса обновленной. Меньше повезло арабам, для которых переход к фазе надлома стал не только кризисным, но и фатальным.
Не менее бурно протекала фаза надлома в Европе, где XIV–XV века – время «великой схизмы», войн и смут. За это время Европа прошла через разгром ордена тамплиеров, Авиньонское пленение пап, Столетнюю войну между Англией и Францией, в которую фактически было вовлечено пол-Европы, Жакерию во Франции, восстание Уота Тайлера в Англии, сожжение Яна Гуса с последующим народным восстанием в Чехии и многое другое [26].
Фаза надлома, как уже было сказано, является самой короткой. В этом смысле период XIV–XV веков в Европе идеально вписывается в теорию этногенеза. Но, обратившись к соответствующим главам трудов Льва Николаевича Гумилева («Этногенез и биосфера Земли», глава XIII «Фаза надлома»; «Конец и вновь начало», глава VII «Пассионарные надломы»), мы увидим, что описание событий надлома в Европе далеко выходит за его рамки.
Дело в том, что пассионарные толчки затрагивают узкие полосы земной поверхности. Здесь процессы роста пассионарного напряжения начинаются раньше, и раньше наступает спад. На сопредельные территории пассионарность привносится извне. Временные рамки соответствующих процессов сдвигаются. Эти сдвиги влекут за собой многочисленные последствия. Ввиду важности данного вопроса позволим себе привести большой отрывок из «Этногенеза и биосферы Земли» полностью. Речь идет о Германии, где рост пассионарности наблюдался и в XVIII веке.
«Германия больше других стран пострадала от ужасов Реформации, Контрреформации и Тридцатилетней войны. Это объяснимо: пассионарное напряжение там стало спадать уже в XIII в. …а коль скоро так, то эта богатая и цивилизованная страна стала жертвой этносов с высоким уровнем пассионарности. Хорваты, испанцы, валлоны, датчане, шведы и французы проходили Германию насквозь 17 , а немцы, как лютеране, так и католики, либо терпели бесчинства ландскнехтов, либо сами примыкали к их бандам. Вера тут роли не играла; шли к тем полковникам, которые лучше платили.
Так как католики в 1618 г. одержали победу при Белой Горе, то протестанты из Чехии вынуждены были искать спасения в эмиграции; многие из них нашли убежище в соседнем маркграфстве Бранденбург. Туда же охотно переселялись французские гугеноты, а также польские „ариане“. Берлин стал прибежищем для гонимых протестантов, которые принесли с собой свою пассионарность.
Бранденбургская марка была основана на земле славянского племени лютичей, и население ее в XVIII в. было смешанным – славяно-германским. Импорт пассионарности повлек за собой слияние этих этносов, подобно тому, что происходило в Англии в XI–XIII вв. Таким образом, Бранденбург, ставший бранденбурго-прусским государством, по сравнению с западной Германией и Австрией отстал в этногенезе на одну фазу: когда кругом все „просвещались“, пруссаки еще хотели воевать. Поэтому они выиграли войну за австрийское наследство, Семилетнюю войну, войну с Наполеоном I и, наконец, с Наполеоном III, после чего Пруссия встала во главе объединенной Германии, исключив из нее Австрию и Люксембург» [26].
Англия в этом отрывке тоже упомянута. Ее территория изначально находилась за пределами полосы пассионарного толчка. Поэтому пассионарность в Англии была «импортной» и привносилась сначала норвежцами и датчанами, потом нормандцами и, наконец, французами при Анри Плантагенете. Поэтому все этнические процессы, связанные с накоплением и спадом пассионарности, в Англии были смещены, что, впрочем, не помешало ей принимать деятельное участи в событиях фазы надлома своего суперэтноса и, кроме того, быстро восстанавливаться после понесенных в этих событиях потерь. По мнению Л. Н. Гумилева, «этот пассионарный момент в значительной степени определяет политику самой Англии как державы на фоне европейского концерта политических сил» [21].
Таким образом, в Европе временные границы надлома смещены за счет неравномерного распределения пассионарности среди отдельных этносов. Для более полного понимания временных рамок фазы надлома и их возможных сдвигов в зависимости от конкретных условий следует отметить, что, с точки зрения Гумилева, в Европе «эта фаза совпала с эпохой Реформации, великих открытий, Возрождения и Контрреформации. В Риме это было время завоеваний Мария, Суллы, Помпея и Цезаря, а также гражданских войн. В Византии аналогичный творческий и тяжелый период – победы исаврийской династии и иконоборчество. В Арабском халифате этот возраст оказался роковым: Халифат распался… Арабам осталась только сфера культуры, но зато они в ней преуспели изрядно» [26].
Однако вернемся к типичным характеристикам фазы надлома. Тем более что мы подошли к очень интересному феномену, связанному с субъективностью восприятия данного периода жизни этносов сторонним наблюдателем. Под сторонним наблюдателем подразумеваются не только и не столько современники, живущие за пределами соответствующих этнических ареалов, сколько потомки.
Гумилев пишет, что «фазу надлома трудно считать „расцветом“. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных „историях“ искусства и литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонарола, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста коннетабля Бурбона» [26].
Действительно, если взглянуть на развитие культуры и науки применительно к странам и народам во времена, соответствующие надлому, то чаще всего картина будет схожая. Так, в Европе одной из самых ярких эпох в развитии культуры является Ренессанс. Он делится на различные периоды и датируется XIV – началом XVII века. Степень яркости и плодотворности этого периода в различных областях научного знания, искусстве и литературе становится понятна даже из простого перечисления хорошо известных имен: Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, Мигель де Сервантес, Франсуа Рабле, Уильям Шекспир и Лопе де Вега, Николай Кузанский, Галилео Галилей, Николай Коперник и Джордано Бруно, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Мишель Монтень, Мартин Лютер, Томмазо Кампанелла и Никколо Макиавелли.
Формирование культуры Возрождения в разных европейских странах происходило не одновременно. Раньше всего она сложилась в Италии, которая на протяжении ста с лишним лет оставалась единственной страной культуры ренессанса и прошла несколько этапов: раннее Возрождение, высокое Возрождение, позднее Возрождение. К концу XV века Ренессанс начал набирать силу в Нидерландах, Германии, Франции (северное Возрождение), в XVI веке – в Англии, Испании. По датировке Гумилева, с конца XVI века Западноевропейский суперэтнос вступает в инерционную фазу, а формально завершение эпохи Возрождения в ряде европейских стран пришлось лишь на XVII столетие.
В случае с Византийской империей ситуация предстает не столь очевидной. Фаза надлома здесь приходится на период иконоборчества. С точки зрения протекания социальных процессов никакого противоречия не наблюдается. Империя раскололась по линии противостояния иконоборцев и иконопочитателей (монофизитов и их противников) со всеми соответствующими последствиями: аресты и убийства иконопочитателей, преследование монахов, ограбление и закрытие монастырей, конфискация церковного имущества. Что касается культуры, ее расцвет обычно относят к более позднему периоду – периоду правления династии Комнинов (со второй половины XI по XII век). Даже соответствующий термин существует – Комниновское возрождение, или Комниновский ренессанс.
Время борьбы с иконами принято считать «темными веками». Чаще анализируются культурные процессы до и после него, а в иконоборческий период констатируется некий культурный провал. Насколько это справедливо можно судить по коллективной монографии «Культура Византии. Вторая половина VII–XII в.», в которой отмечается, что «обозначение VII и VIII вв. в качестве „темных“ лишено необходимой конкретности и имеет в виду прежде всего крайнюю скудость уцелевших источников». По мнению ее авторов, «скудость свидетельств источников этой эпохи, даже сравнительно с V–VI вв., – сама по себе является доказательством пережитой империей трагедии» [118].
В монографии также отмечается, что в VIII–IX веках началось возрождение «ряда отраслей культуры – таких, как естественно-научные знания, искусство мореплавания, военная мысль, юриспруденция, светское и религиозное зодчество, прикладные искусства и т. п.» [118]. Строго говоря, этот период и относится ко времени иконоборчества. Иконопочитание было объявлено ересью на Вселенском Соборе в 754 году, а уже Константинопольский собор 842 года провозгласил необходимость восстановления почитания икон и предал анафеме иконоборчество.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что культурного расцвета европейского масштаба в этот период жизни Византийской империи мы не наблюдаем. По мнению Л. Н. Гумилева, византийский ренессанс случился раньше. «Византийская культура имела свой период „Возрождения“ эллинской древности, когда греческий язык вытеснил латинский из государственного управления (при императоре Маврикии), и свою Реформацию – иконоборчество, и свою эпоху Просвещения – при Македонской династии» [26].
Из приведенного отрывка сложно судить, распространяет ли Лев Николаевич период надлома в Византии и на VI–VII века, что сомнительно, так как противоречит другим его высказываниям на этот счет. Гумилевская датировка фазы надлома в Византии уже была приведена выше: «победы исаврийской династии и иконоборчество». То и другое датируется VIII–IX веками. Скорее всего, речь идет о проявлении соответствующих тенденций в пограничных с надломом фазах.
Расцвет арабской культуры приходится на IX–XII века. Мы помним, что развитие Мусульманского суперэтноса шло ускоренными темпами. «К X в. энергия арабо-мусульманского этноса иссякла, несмотря на то, что экономика расцвела, социальные отношения нормализовались, а философия, литература, география, медицина именно в эту эпоху дали максимальное количество шедевров. Арабы из воинов превратились в поэтов, ученых и дипломатов. Они создали блестящий стиль в архитектуре, построили города с базарами и школами, наладили ирригацию и вырастили прекрасные сады, обеспечивавшие пищей растущее население. Но защитить себя от врагов арабы разучились. Вместо эпохи завоеваний настала пора потерь» [26].
Действительно, территориальные потери были огромными, но в области науки и искусства арабы совершили невероятный скачок. Примечательно, что с трудами античных мыслителей, в первую очередь Аристотеля, Европа познакомилась благодаря переводам с арабского. Общепризнанно, что в развитии научного знания арабский Восток IX–XII веков далеко опередил современную ему Европу, а достижения арабских ученых стали основой для развития средневековой европейской науки. «Превосходство Запада над Востоком, – как заметил Георгий Владимирович Вернадский, – в смысле науки и техники – дело гораздо более позднего времени. Лишь в XVI или XVII веке можно определенно говорить о научно-техническом превосходстве Европы над Азией, причем все еще с оговорками. В более раннее время не всякий мог бы разглядеть в Европе ростки будущей культурной гегемонии» [14].
В этнической системе к фазе надлома накапливается «усталость от великих». В своем стремлении преобразовать жизнь к лучшему («Мы знаем, мы знаем, все будет иначе!») этнос идет по пути радикальных решений, так как пока еще эти пути диктуются пассионариями со всей присущей им решительностью и бескомпромиссностью. Пассионарность начинает быстро снижаться за счет гибели своих носителей во внутренних катаклизмах.
Иногда удается «сплавить таких людей за пределы страны: в Палестину, в Мексику, в Сибирь; тогда пассионарный уровень снижается, народу становиться легче, правительство может координировать ресурсы страны и с их помощью одерживать победы над соседями. Внешне этот спад пассионарного напряжения кажется прогрессом, так как успехи затемняют подлинное снижение энергетического уровня» [21].
«В эту эпоху этнос или суперэтнос живет инерцией былого взлета и кристаллизует ее в памятники искусства, литературы и науки» [24]. Благодарные потомки не устают восторгаться Венерой Боттичелли и Сикстинской Мадонной Рафаэля, цитировать Фирдоуси и Омара Хайяма, вспоминать китайских выдающихся философов и арабских математиков. Однако на место пассионариев приходят гармоничные люди и субпассионарии. Возникает эгоистическая этика, диктующая новый стереотип поведения. Система упрощается. Приближается инерционная фаза.
Инерционная фаза или, как ее называл Лев Николаевич, «золотая осень» этноса – не худший вариант развития событий. Но переход к ней – тяжелое испытание. Как и любой другой этап этногенеза, фаза надлома не является однородной. Периоды накала страстей сменяются периодами затишья, но именно «в надломе бывает короткий период депрессии – разгула субпассионариев. Надо суметь его пережить, чтобы выйти в инерционную фазу» [21].
Из трех упомянутых нами суперэтносов до «золотой осени» дожили только два – Западноевропейский и Восточнохристианский. Арабы, конечно, тоже с лица земли не исчезли, но суперэтническую целостность утратили.
IV
…Очевидно, в этом есть какое-то непонятное свойство природы: вино переходит в уксус, Мюнхаузен – в Феофила.
Из к/ф «Тот самый Мюнхаузен»
Продолжительность инерционной фазы, как и длительность фазы обскурации, подвержена значительным колебаниям. «Это зависит как от интенсивности внутренних процессов разложения этноса, так и от исторической судьбы, определяемой степенью развития материального базиса, накопленного за предшествовавший период, физико-географическими условиями ареала и состоянием смежных этносов» [26]. Если исходить из общей продолжительности процесса этногенеза от пассионарного толчка до вхождения этноса в состояние гомеостаза (1 200–1 500 лет), то на совместную долю инерции и обскурации приходится порядка 4–7 веков.
По образному выражению Льва Николаевича, переход к инерционной фазе осуществляется под лозунгом «Дайте же жить, гады!» Уставший от бурной молодости этнос в лице сохранившейся своей здоровой части начинает наводить в доме порядок. Можно долго рассказывать о подробностях этого переустройства, но суть его сводится к тому, что можно назвать стандартизацией и унификацией.
За предыдущие насыщенные событиями времена члены этноса «уже научились понимать, что индивидуальности, желающие проявиться во всей оригинальности, представляют для соседей наибольшую опасность» [26]. На деле, конечно, никакого осознанного и одинакового понимания в такой массе людей возникнуть не может. Просто так или иначе основная часть пассионариев уничтожена, а оказавшийся в большинстве обыватель терпеть не может того, что лично для него чуждо. Индивидуальность же, особенно в своих крайних проявлениях, непонятна, а посему опасна и вообще мешает жить. Продолжают работать универсальные механизмы естественного отбора, но сами критерии отбора меняются.
Стандартизация начинается со смены общественного императива на «Будь таким, как я!» Населению предлагается некий идеал, к которому следует стремиться. В роли такого идеала может выступать реальная личность вроде императора Октавиана Августа, как это случилось в Римской империи, или умозрительный образ вроде идеала джентльмена в Англии, святого – в Византии, богатыря – в Центральной Азии [26].
За формированием образца (идеала) следует навязывание этого стандарта, то есть приведение представителей этноса к некоторому единообразию. Диапазон принуждающих мер весьма широк: от общественного неодобрения до прямого насилия над теми, кто не желает (а иногда, в силу яркости индивидуальных черт, не может) вписаться в предложенные рамки. Физическое насилие как отголосок фазы надлома более свойственно начальной стадии инерционной фазы. Постепенно эффективности общественного мнения в большинстве случаев становится достаточно.
В сравнении с предыдущими периодами этногенеза в этом отношении принципиально ничего не меняется. В любом обществе существуют нормы, которые поддерживаются соответствующими санкциями. Разница заключается в том, что вариативность норм снижается, и применение санкций приводит к большему «усреднению» людей, чем в предшествующие инерции времена. Поэтому «вымывание» из этноса пассионарного элемента продолжается. Только скорость этого процесса ниже, чем в фазе надлома. Одновременно возрастает роль людей гармоничных.
Прекрасной иллюстрацией к преобразованиям инерционной фазы в области формирования человека является анализ трансформации образа положительного героя, приведенный в уже упомянутой монографии «Культура Византии. Вторая половина VII–XII в.». Он заслуживает хотя и выборочного, но довольно объемного цитирования: «…становлению византийской литературы присущ постепенный отказ от изображения сложности и противоречивости природы человека в пользу парадигматического идеала, определяемого набором отвлеченных от конкретности достоинств и недостатков. Собственно эволюция литературного героя заключается при таком подходе не в создании нового литературного образа неповторимой индивидуальности, но в изменяемости самого каталога добродетелей и пороков, с одной стороны, и конкретных носителей этих качеств – с другой.
<…>
Фигура собственно византийского святого как идеального героя не оставалась неизменной константой на протяжении веков. <…> VIII – X столетия выдвинули в герои житий ряд крупных церковных иерархов (константинопольских патриархов Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия, Игнатия, Евфимия), известных исповедников веры (Феофана, Феодора Студита). Это уже не агиографический герой в духе св. Антония, борющегося с искушением вдали от мирской суеты. Напротив, святые VIII – X вв. совсем нередко в гуще столичных событий и противостоят вполне конкретным историческим персонажам с иными, чуждыми святым, взглядами и убеждениями.
<…>
Эволюция литературного героя проходила в VIII – X вв. не только по линии изменения его социального облика и общественной позиции. Изменялся набор черт, выдвигавшихся в качестве идеальных. Показательна в этом смысле трансформация образа идеального императора. Анализ „княжеских зерцал“ („княжеских“, конечно же, условно, поскольку речь в них идет об идеале императора) показывает, что на протяжении VII – первой половины IX в. они утрачивают вполне традиционные для идеализированного облика императора черты: воинские доблести, образованность; преодолевается представление о двойственной природе императора (божий избранник и одновременно человек, равный перед лицом бога своим подданным); исчезают портретные характеристики; определяющим в парадигме монарха становится его благочестие.
<…>
С конца IX в. (в „Учительных главах“ Василия I) и на протяжении X в. происходит дальнейшее преображение литературного героя. В каталог императорских добродетелей возвращается образованность; хотя и осторожно, но затрагивается тема знатности по происхождению; выдвигается на передний план функция императора – блюстителя закона» [118].
Существенна динамика в теме войны и мира: «…поэтический апофеоз войны не претил византийскому автору VII в.», но постепенно позиция меняется. «Ее теоретическим выражением на исходе IX столетия были „Учительные главы“ Василия I, наставлявшего будущего императора Льва VI в том, как следует крепить мир в духе евангельской заповеди „блаженны миротворцы“, и посвятившего этому сюжету отдельную главу, а о полководческих обязанностях монарха не упоминая совсем» [118].
Впрочем, призыв к «травоядности» часто звучит в начале инерционной фазы, но окончательно утверждается лишь ближе к ее концу, когда пассионарное напряжение падает ниже необходимого для нормального функционирования оптимума. А в промежутке этническая система живет вполне насыщенной жизнью, частенько воюет. Византия в этом отношении не была исключением.
Период правления Македонской династии (конец IX – начало XI веков) считается золотым временем Византийской империи: развиваются торговые связи с западными и восточными соседями, растут города, их население увеличивается, расширяются византийские владения как на Западе (завоевание Болгарского царства), так и на Востоке (победы над арабами, приращение территории за счет армянских земель). При императоре Василии II Византия становится сильнейшем государством Европы. Это и время успехов Византийской империи в идеологической сфере. Словом, Византийская империя достигла процветания.
При беглом взгляде на инерционную фазу она представляется прекрасным временем. «Трудолюбивые ремесленники, бережливые хозяева, исполнительные чиновники, храбрые „мушкетеры“, имея твердую власть, составляют устойчивую систему, осуществляющую такие дела, какие в эпоху „расцвета“ казались мечтами. В инерционной фазе не мечтают, а приводят в исполнение планы, продуманные и взвешенные. Поэтому эта фаза кажется прогрессивной и вечной» [24]. Однако, с «вечностью» у Византии, и не только у нее, почему-то не сложилось. Интересно, почему?
Ответ на этот вопрос мы получим, если рассмотрим динамику развития этноса в инерционной фазе. Идеальные образы святого, богатыря и джентльмена достойны подражания, однако, чтобы им следовать, этнической системе необходима достаточно весомая доля пассионарности, а пассионарность медленно, но неуклонно снижается. В итоге богатырь получает прописку в сказках, джентльмен мельчает, а святой превращается едва ли не в свою противоположность.
Им на смену приходит идеал «золотой посредственности». Воцаряется «порядок, который обеспечивает возможность спокойно жить и существовать в меру своих обязанностей, никогда не претендуя на достижение решающего успеха» [26]. Некоторое время пассионарии еще находят себе приют в науке и искусстве – «сферах, не связанных с риском» [26]. Но постепенно происходит снижение эстетического уровня произведений культуры. Количество их при этом может даже увеличиваться, создавая иллюзию интенсивности творческого процесса. Ученые перестают мечтать о великих открытиях и сосредоточиваются на практических изобретениях.
«Конечно, на этом фоне появлялись гении: мыслители, ученые, поэты, но их было не больше, чем в жесткую акматическую фазу. Зато они (гении акматической фазы – Н. К.) имели хороших учеников, а их концепции – резонанс» [26]. Выдающиеся достижения, не имеющие прикладного характера, в этнической системе ближе к концу инерции оценить по достоинству, как правило, некому. Как говорится, нет пророка в своем отечестве.
Исподволь на фоне торжества посредственности происходит потеря не только индивидуальности, но и нравственных ориентиров. Вера уступает место безверию. Морально-нравственное разложение охватывает все более широкие слои населения. Тихие и трудолюбивые люди перестают соответствовать духу времени; их постепенно вытесняют субпассионарии типа «обывателей» и «созерцателей». Причем субпассионарии чувствуют себя все лучше и комфортнее, так как «в „мягкое“ время цивилизации при общем материальном изобилии для всякого есть лишний кусок хлеба и женщина» [21]. Численность их неуклонно растет. Наступает фаза обскурации.
Переход из фазы накопления пассионарности в акматическую или из акматической в надлом еще можно привязать к каким-то событиям. Фазовый переход от надлома к инерции вообще является одним из самых тяжелых кризисов в жизни этноса и потому, как правило, хорошо заметен. Водораздел между инерцией и обскурацией, как правило, четко не прослеживается. Темные времена подкрадываются незаметно.
По этой схеме развивались события и в Византийской империи. Мы упомянули последнего василевса Македонской династии Василия II. Он пытался ограничить влияние византийской аристократии, проводя жесткие меры, препятствующие обогащению крупных землевладельцев. Дело доходило до конфискации земель. Но уже к концу правления Василия II ряд влиятельных византийских кланов заметно усиливается. На смену Македонской династии приходят Комнины. При Комнинах высшая элита представляет собой группу аристократических фамилий, связанных между собою родственными узами. С них-то и начинается загнивание византийского общества.
Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит. Наоборот, даже Комниновское возрождение имеет место. В действительности подспудно идут процессы, в свете которых трагический конец Византийской империи представляется предопределенным и вполне логичным. Наглядную и яркую их характеристику можно обнаружить в статье доцента кафедры культурологии и искусствознания Кемеровского государственного университета культуры и искусств Дмитрия Анатольевича Филина «Византийское монашество и кризис империи рубежа XII – XIII вв.»
Ссылаясь на Никиту Хониата18, Д. А. Филин пишет: «…тенденции, чутко уловленные Хониатом, были уже весьма заметны во 2-й половине XI столетия. Определены они «индивидуализацией» сознания… <…> …развитием таких черт характера, как исключительное себялюбие, эгоцентризм, замкнутость на своих собственных проблемах, руководство в деятельности почти исключительно гедонистическими мотивами, и как долговременное историческое следствие в конечном итоге – предпочтение частных, своекорыстных интересов общим. В начале же „индивидуализация“ сознания весьма способствует развитию творчества, появлению новых одаренных индивидов.
<…> Авторы XII столетия гордятся своим талантом, образованностью, проявляют повышенный интерес к собственной индивидуальности 19 : обобщенности предпочитая наблюдательность, интерес к деталям, мелочам быта. В дальнейшем, в XII в., индивидуализация ведет к профанации творчества…
<…> Советы Кекавмена (2-я половина XI в.) больше всего касаются взаимоотношений с начальством и подчиненными, безопасности собственного положения, репутации в глазах властей. Такие понятия, как дело, долг, честь, не присутствуют на страницах его книги (чем не наставления Д. Карнеги? – Н. К.).
<…> Процесс индивидуализации сознания ведет к расшатыванию традиционных церковных устоев в сфере семьи и положения женщины. <…> Константинополь превратился в новый изнеженный Сибарис. Язвами ромейского общества стали всеохватывающий эгоизм, себялюбие, забота исключительно о самом себе. Люди пренебрегают близкими, родными, Родиной: ими движет лишь жажда самосохранения и корыстная трусость» [122].
После такого описания византийских реалий XII – XIII веков возникает стойкое чувство, что на современную Европу можно времени и не тратить: достаточно в приведенном отрывке поменять даты, имена, названия. То, что так замечательно начиналось в эпоху Просвещения с призывов к гуманизму20, на наших глазах завершается эгоизмом, ханжеством и лицемерием, повсеместной подменой понятий, насаждением противоестественных форм поведения под видом заботы об индивидуальности и т. п., а главное, полным параличом воли и безответственностью. В дополнение картины и восточные «варвары» уже подоспели.
Таким образом, «отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого обывателя… здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы они его оставили в покое» [21]. Поскольку такая пассивность не способствует организации отпора кому бы то ни было (как чужим, так и своим), гармоничные люди постепенно замещаются субпассионариями. Пассионарность воспринимается как вызов самодовольному большинству и всячески подавляется.
К концу инерционной фазы разрыв между провозглашаемыми «вегетарианскими» идеологемами и абсолютно «людоедской» психологией элит, а также падение нравов, затрагивающее широкие слои населения, достигает критического уровня. Этническая система ввергается в фазу обскурации. В момент фазового перехода или чуть позже, когда начинается повсеместное «броуновское движение», и каждый тянет одеяло на себя, могущественная и процветающая цивилизация, «совершенно неожиданно»21 обрушивается под напором очередных «варваров».
Впрочем, часто это происходит значительно раньше. Лев Николаевич Гумилев считал, что до обскурации этносы доживают редко. Но не всегда это связано с очевидной гибелью этнической системы. Иногда происходит то, что внешне выглядит как ее обновление, а на самом деле является подъемом нового этноса в результате очередного пассионарного толчка.