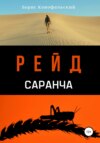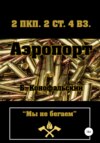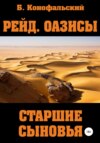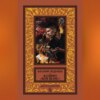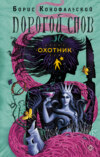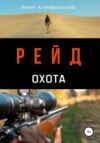Читать книгу: «Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта», страница 5
Антисистемы, появляясь в зоне суперэтнических контактов, не связаны с тяготами жизни. Объективно существование людей в этих зонах и в эти периоды может быть как невыносимым, так и вполне благополучным. Размножение в антисистеме идет не естественным путем, а путем инкорпорации в свою среду вновь завербованных членов. Характерными антисистемными признаками являются ложь и стремление к упрощению системы. Антисистемы не могут существовать долго. Они гибнут сами и губят этнические системы, в которых зародились15.
Надо добавить, что химера и без возникновения антисистемы несет угрозу существованию этнической системы. Причиной этому является не мироотрицание, хотя в химерных образованиях наблюдается повышенная к нему восприимчивость, а отсутствие привязанности к отчему дому в самом широком смысле. Привязанность эта нарушается в силу отсутствия у некоторых этносов отдельного места в этнической системе. Происходит замещение этнической идентичности псевдоэтничностью (ее частным случаем является космополитизм).
Один из примеров химер у Гумилева – Турция в период поздней Османской империи. На ее же примере он показывает и возможности регенерации, которая стала для Турции возможна «за счет использования неизрасходованной пассионарности „отсталых“ окраинных районов» [21].
Этническая регенерация – «это частичное восстановление этнической структуры, наступающее после периода деструкции» [21]; она имеет свои закономерности, связанные с фазами этногенеза. В фазе подъема этнос растет и структурно усложняется без какой-либо регенерации. Начиная с акматической фазы «уже есть что восстанавливать» [21] (и чем дальше, тем больше). В период от акматической фазы до инерционной регенерация связана с выдвижением на ведущие позиции в системе людей, которые еще способны быть не только самими собой, но и тем, кем должно: «Возможно, что в критический момент найдутся какие-то люди, которые опять поставят во главу угла не свой личный интерес, не свою шкуру, а свою страну, как они ощущают ее, свой этнос, свою традицию» [21].
Разница в том, что в акматической фазе, а до известной степени и в фазе надлома, таких людей еще достаточно много в центральных областях этнического ареала, а в инерционной (особенно ближе к ее окончанию) уже приходится «скрести по сусекам» (окраинам). В фазе обскурации регенерация крайне маловероятна и «носит ограниченный характер» [21]. Ее возможности также связаны с наличием пассионарности на периферии, если провинции еще не утратили чувство общности с центром.
Таковы основные дефиниции, которыми оперирует Гумилев.
Глава 3. От подъема до гомеостаза. Коротко о главном
I
Нарушителей правил сначала называют преступниками. Потом – психами. И, наконец, пророками.
Из телесериала «Метод»
Лев Николаевич Гумилев определяет этногенез как «весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы» [26]. Время от рождения этноса до вхождения его в мемориальную фазу длится около 1 200–1 500 лет. За это время этнос последовательно проходит все динамические фазы: пассионарного подъема, акматическую, надлома, инерционную и фазу обскурации. Последняя, мемориальная – гомеостатическое состояние этноса (того, что от него осталось после всех исторических перипетий), в котором он при благоприятных обстоятельствах застывает на неопределенно долгий срок16.
Вспышка пассионарности – обязательное условие начала этногенеза. Остальное будет зависеть от уровня технологического развития и степени пассионарности материнских этносов, окружающей обстановки и т. п., так как новые этносы наследуют материальную базу, отчасти знания и навыки старых, уходящих в небытие, а также преодолевают их сопротивление и давление внешней среды в виде агрессивных и недремлющих соседей.
Фаза пассионарного подъема длится приблизительно триста лет и состоит из двух этапов по сто пятьдесят лет каждый – скрытого (инкубационного) и явного. Инкубационный характеризуется появлением некоторого количества людей, которые восстают против сложившихся веками правил, норм и ограничений. Это «восстание» какое-то время остается за кадром истории, так как, на взгляд современников, ничего особенного не происходит, жизнь течет как обычно. Появляются какие-то «чудики». Так они время от времени появляются всегда и везде. Окружающие подвергают их обструкции, изгоняют из своей среды, иногда убивают.
Историки тоже не могут отследить этот момент с хроникальной точностью. А спустя некоторое время оказывается, что в недрах накапливающейся пассионарности рождается «идеал», под которым Л. Н. Гумилев подразумевает «далекий прогноз и ничего более» [24]. Более или менее этот процесс становится очевидным (все еще не для современников, но уже для историков), когда у части пассионариев созревает образ будущего и они, стремясь воплотить его в жизнь, объединяются с единомышленниками в некую группу, которая в теории этногенеза носит название «консорция». Это еще не этнос, а люди, входящие в консорцию, могут иметь разное этническое и социальное происхождение, но судьба с этого момента у них общая.
Примерами таких консорций являются люди длинной воли, объединившиеся под началом Чингисхана, ранние христиане, Мухаммед со своими мухаджирами, рыцари Круглого стола в Англии, французские рыцари Карла Великого. Их всех роднит то, что у них есть образ будущего, к которому они стремятся, и этот образ кардинально не совпадает с картиной мира, существующей в их этнической среде. Среда оказывает им сопротивление, но со временем у них появляется все больше и больше единомышленников. Идет ломка старых стереотипов поведения, нарождается новый этнос.
Процесс рождения этноса не всегда идет гладко, иногда буксует, дает временные откаты: например, распри и развал империи после смерти Карла Великого. Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от состояния тех этнических систем, в которых начинает «прорастать» новый этнос. Нахождение их на излете этногенетического цикла (в фазе обскурации или гомеостазе) облегчает задачу. Если же эти этнические субстраты находятся на подъеме и обладают сильной социальной системой, то будущему приходится преодолевать колоссальное сопротивление. Сильные и агрессивные соседи также могут оказать серьезное воздействие. При определенном сочетании неблагоприятных условий процесс этногенеза может вообще прерваться. Если этого не происходит, фаза накопления пассионарности неизбежно переходит в свой явный этап.
В этот период произошедшие изменения становятся достаточно выраженными, чтобы их мог заметить сторонний наблюдатель. И вот на глазах у изумленных соседей появляется молодой агрессивный этнос, быстро размножающийся и переходящий к активной экспансии. Количество его субэтносов возрастает, что влечет за собой увеличение числа связей в системе, происходит ее усложнение.
Неуклонно увеличивается и число пассионариев. Тон в обществе задают именно они. Все должны работать на общее дело. Чувство долга является определяющим. Социальная система в этот период оформляется по принципу «Будь тем, кем ты должен быть!» и функционирует достаточно жестко. «Если человек не соответствует своему назначению, то короля убивают, герцога лишают надела, рыцаря выгоняют с позором и с плетьми, раз он оказался трусом, а не героем» [24]. Ни о какой демократии в сегодняшнем понимании в этот период помышлять невозможно, но социальные лифты работают хорошо.
Показательно в этом отношении выстраивание своей империи Чингисханом. В империи Чингисхана не было ни одного выборного органа. Да и сам он был провозглашен императором вождями племен, а не избран народом. Чингисхан осуществлял свою власть в империи через посредство иерархии сотрудников. Он сам назначал людей на высшие воинские и административные должности. Эренжен Хара-Даван отмечал, что при этих назначениях он «никогда не руководствовался только происхождением, а принимая в серьезное внимание техническую годность данного лица и степень его соответствия известным нравственным требованиям, признававшимся им обязательным для всех своих подданных, начиная от вельможи и кончая простым воином» [124]. К таким требованиям относились верность, преданность и стойкость. Одними из самых тяжелых преступлений считались неоказание помощи боевому товарищу и предательство доверившегося.
«При подъеме вырастает роль гармоничных людей, исправно несущих свои обязанности» [26], но определяющей силой они не являются, уступив эту роль пассионариям. Из трех рассмотренных выше типов нет места только одному – субпассионариям. Они потихоньку вымываются из этноса, так как не соответствуют духу времени. Им сложнее выжить и оставить потомство. Как пишет Гумилев, их просто не замечают. Но количество их еще достаточно, чтобы проявиться в акматической фазе.
II
Он приказал подать себе свежую лошадь, сильную и резвую, выбрал новое, крепкое копье, опасаясь, что древко старого не так уже надежно после предыдущих стычек, и переменил щит, поврежденный в прежних схватках. На первом щите у него была обычная эмблема храмовников – двое рыцарей, едущих на одной лошади, что служило символом смирения и бедности. В действительности вместо этих качеств, считавшихся первоначально необходимыми для храмовников, рыцари Храма в то время отличались надменностью и корыстолюбием, что и послужило поводом к уничтожению их ордена. На новом щите де Буагильбера изображен был летящий ворон, держащий в когтях череп, а под ним надпись: «Берегись ворона».
Вальтер Скотт. «Айвенго»
Между тем пассионарность молодого этноса растет. Пик этого роста приходится на акматическую фазу. Длительность ее, как и предыдущей, составляет приблизительно триста лет. Уровень пассионарности очень высокий, но пассионарии перестают работать на общее дело. Подъем индивидуализма повсеместен. Право долга уступает праву силы. На первое место выходят личные цели и интересы, которые определенным образом соотносятся с интересами других людей, но не всех представителей своего этноса, а лишь наиболее близких: членов группы, клана, рода и т. п. Этнос дробится, при этом существует система взаимообязанности и взаимовыручки, круговой коллективной ответственности.
Л. Н. Гумилев характеризует акматическую фазу этногенеза следующим образом: «После определенного момента, некой красной черты, пассионарии ломают первоначальный императив поведения. Они перестают работать на общее дело, начинают бороться каждый сам за себя» [21]. Если в фазе подъема актуален императив «Будь тем, кем ты должен быть», т. е. существует однозначный приоритет системы над индивидом, то в акматической фазе вступает в силу императив «Будь самим собой»: «Художник начинает ставить свою подпись под картинами: „Это я сделал, а не кто-то“. Да, конечно, все это идет на общую пользу, украшает город замечательной скульптурой, но „уважайте и меня!“ Проповедник не только пересказывает слова Библии или Аристотеля без сносок, перевирая как попало, не утверждая, что это чужие святые слова, нет, он говорит: „А я по этому поводу думаю так-то“, и сразу становится известно его имя» [21].
Лев Николаевич объясняет эту метаморфозу тем, что у пассионариев после всех подвигов и свершений во имя общего блага еще остаются нерастраченные силы, которые они и решают направить на реализацию личных целей. Такое объяснение, конечно, является упрощенным. Носители пассионарности – конкретные люди, но на уровне этноса должны быть надындивидуальные механизмы, ответственные за подобную перестройку. В противном случае невозможно объяснить ту согласованность, с которой пассионарии начинают соперничать друг с другом.
Скорее всего, причина «биологична»: чем больше в популяции появляется пассионарных индивидов, претендующих на роль альфа-особей, тем острее ощущается ограниченность ресурсов и проявляется конкуренция. Регуляция такого рода процессов происходит на нейрогуморальном уровне без вмешательства сознания. Применительно к человеку вслед за Гумилевым можно сказать: «развитие индивидуализма ведет к столкновению активных индивидуумов» [26], а активных индивидуумов в это время много.
Период феодальной вольницы в Европе XI–XIII веков – когда бароны беспрестанно воевали друг с другом, громоздили неприступные замки и бросали вызов даже королям – приходится именно на акматическую фазу. В этот период на гербах многих родов появляются прекрасно передающие дух времени девизы: «Не король, не принц, не герцог и не граф. Я – сеньор де Куси», «Королем быть не могу, принцем не желаю, я – Роган», «Герцог Савойи, иду своей дорогой».
Эта характерная черта европейского Средневековья в литературе объясняется почти исключительно особенностями феодализма – феодальная раздробленность, ничего с этим не поделаешь. Тем не менее история знает примеры, когда развитие этой формации никакой раздробленностью не сопровождалось: многим восточным странам эпохи феодализма была присуща государственная централизация. Для объяснения этого противоречия пришлось привлекать факторы, не имеющие прямого отношения к общественно-экономической формации, и выделять модели развития феодализма по западному и восточному образцам. Гумилев же утверждал: «Сам принцип феодализма – экономический принцип – вовсе не предполагает огромного количества безобразий», поэтому «стремление, например, дать по физиономии соседу, а потом убить его на дуэли» [21] связано не с экономическими условиями, а с уровнем пассионарности.
Как отмечал Лев Николаевич, «все пассионарные народы в этот период, период пассионарного перегрева, оказались уже не поборниками тех своих положительных идеалов, которые у них были до этого, а противниками своих соседей, и действовали они со страшной энергией, но уже не под лозунгом „за что“, а „против чего“» [21].
Когда один пассионарий начинает бороться с другими, его шансы на победу повышает наличие людей, образующих группу поддержки. Для средневековых феодалов Европы такой группой была армия, пусть маленькая и больше напоминающая банду, но собственная. Вот тут-то и выясняется, что у субпассионариев появляются шанс и своя ниша в обществе. Определяющей силой они по-прежнему не являются. Однако «изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе» [21].
Акматическая фаза – время надежд, свершений и ярко выраженной внешней экспансии. «При переходе фазы подъема пассионарности в акматическую стремление к расширению ареала наступает столь же неуклонно, как закипание воды при 100°С и нормальном давлении» [21]. «Именно в этой фазе создается единый этнический мир – суперэтнос, состоящий из отдельных, близких друг к другу по поведению и культуре этносов» [24]. Однако и зерна будущего раскола этнического поля начинают прорастать в этот же период: этническая структура усложняется, разные субэтнические группы соперничают друг с другом, у ряда пассионариев возникает желание подкорректировать «первоначальный план» строительства общества.
В характеристике акматической фазы Л. Н. Гумилев значительное место отводит ересям. Они могут возникать в любые времена, но для пассионарного перегрева отстаивание чего-то своего – права на положение в обществе, на власть, взглядов на мироустройство, включая еретические, и т. п. – примета времени. Начало этих явлений и процессов, как правило, можно проследить уже в конце фазы подъема. Собственно говоря, так происходит со всеми типичными характеристиками различных периодов этногенеза – они закладываются в конце предыдущей фазы. Поэтому переход от одной фазы к другой не имеет четко обозначенных временных границ.
В свою очередь события акматической фазы дают толчок изменению характера развития этноса, в результате чего в следующей фазе, фазе надлома, «развитие продолжается, но уже в смещенном виде. Меняется знак вектора, а иногда система разваливается на две-три системы и более, где различия увеличиваются, а унаследованное сходство не исчезает, но отступает на второй план» [21]. Само собой разумеется, что при этом происходит перестройка социальных конфигураций.
Ереси относятся не столько к сфере сугубо религиозного, сколько социального взаимодействия. Согласно классикам социологии ереси, эти религиозные течения являются источником интеллектуального развития и социальных изменений, а еретик – «искаженным своим». Если мы рассмотрим возникновение ересей на нескольких примерах, то увидим, что при всех различиях, связанных с условиями зарождения и развития этнических систем, как правило, прослеживается одна и та же схема. Случаи гетеродоксии фиксируются уже в период подъема, на акматическую фазу приходится их расцвет, а в последующий период происходит институциональное оформление некоторых религиозных течений, по границам которых зачастую проходит надлом.
Так, в Малой Азии ереси начали возникать уже в период становления и оформления восточно-христианской церкви (II–III века н. э.), но настоящий еретический бум в восточных Римских провинциях приходится на IV век (арианство, македонианство, несторианство, монофизитство). Возникновение восточнохристианского суперэтноса Гумилев относит к I веку н. э. В этом случае акматическая фаза будет приходиться на IV–VI века.
Однако на уровне акматической фазы в Византии дело не закончилось. В окончательном расколе этнического поля и событиях периода надлома огромную роль сыграло иконоборчество (VIII–IX века), ставшее не только религиозным, но и политическим течением. Иконоборчество послужило поводом для начала внутренних репрессий и кровопролития. В центре иконоборческого конфликта была не столько полемика между сторонниками и противниками икон, сколько расцвет монофизитской ереси, отрицающей человеческую природу Христа.
Несколько иначе складывались обстоятельства в арабском мире. Появление и начало формирования будущего Мусульманского суперэтноса в VI веке н. э. происходило на фоне состояния гомеостаза, в котором пребывали многочисленные местные племена. Жизнь на Аравийском полуострове текла размеренно, возникающие конфликты носили вялотекущий характер. Зарождение и развитие новой этнической системы не встречало серьезного сопротивления и шло ускоренными темпами. Определенную катализирующую роль играли благоприятные условия для экзогамии в арабских гаремах. Как отмечал Гумилев, процесс этногенеза «в условиях колоссального смешения оказывается более интенсивным» [21].
Монолитность ислама сохранялась достаточно короткий промежуток времени. Преемники Мухаммеда начали делить его духовное наследие вскоре после смерти пророка в 632 году. Уже к концу VIII века было несколько религиозно-политических направлений ислама: сунниты, шииты, хариджиты, мутазилиты, мурджииты. Внутри каждого из этих направлений существовало множество различных религиозных школ. Борьба между ними была острой, вела к расколу исламского мира не только между основными направлениями, но и внутри них. Так, только среди шиитов в VII–XI веках возникают секты исмаилитов, имамитов, алавитов, друзов, ассасинов. Причем некоторых из них, с точки зрения Гумилева, характеризуют признаки антисистемы.
Религиозно-этнические противоречия и политический сепаратизм, а также возникновение антисистемы привели к тому, что огромный Арабский халифат стал распадаться на части. Лев Николаевич писал о Мусульманском суперэтносе: «…жизнь его протекала столь напряженно, что состарила его преждевременно» [21].
Пассионарный толчок в Западной Европе состоялся в VIII веке. Соответственно акматическая фаза у соответствующих этносов должна была разворачиваться приблизительно в период XI–XIII веков. До XI века Европа практически не знала массовых еретических движений. Но уже XII–XIII века характеризуются как расцвет ересей в странах Западной Европы. В конце XII века для борьбы с ними была создана инквизиция. Однако и в XIV–XV веках ереси сохранялись, приобретая новый характер и масштаб.
С XIV века в Европе начинается активная борьба за власть как внутри церкви («великая схизма»), так и между церковью и королевской властью. Если мы внимательно присмотримся к событиям того времени, то обнаружим, что в этот период ереси все больше смещаются из области религиозных противоречий в область социальных, превращаясь в различные по своей направленности социальные течения. Таким образом, речь шла уже не о догматах веры, а о политических, в ряде случаев даже национально-освободительных (проповеди Яна Гуса) мотивах. Фактически здесь мы видим уже первые проявления фазы надлома.
Этногенез в акматической фазе идет очень интенсивно. Рост пассионарности ведет к обострению противоречий, конкретные черты которых определяются актуальными местными условиями. «Акматическая фаза особенно часто является весьма пестрой и разнородной по характеру, доминантам и интенсивности протекающих этнических процессов» [26]. С одной стороны, значительное количество пассионарности делает этническую систему мобильной и наступательной, что способствует ее усилению. С другой, внутренняя борьба пассионариев ведет к дезинтеграционным процессам. Характер и последствия этих процессов могут быть различными. Так, для Западной Европы было характерно территориальное распадение, а для Византии того же этапа развития – идеологическое.
Скорость этнических процессов, как видно на примере Мусульманского суперэтноса, тоже может быть различной. К их ускорению ведет не только отсутствие необходимости расходовать большое количество пассионарности на преодоление сопротивления изначально слабых материнских этнических систем или противостояние соседям, но и благоприятные условия для экзогамии.
В период акматической фазы этническая система не всегда оказывается победительницей во внешних конфликтах, так как избыток пассионарности не гарантирует военного успеха. «Вспомним, что он ведет к дезорганизации, происходящей от развития индивидуализма. Когда каждый хочет быть самим собой, то организовать значительную массу таких людей практически невозможно» [21].
Периоды пассионарного перегрева сменяются временными спадами при постепенном снижении амплитуды. Далее «пассионарный спад ускоряется, социальная перестройка неизбежно отстает от потребностей, диктуемых этнической динамикой. Острота ситуации и довольно значительный, хотя и уменьшающийся, запас пассионарности определяют стремление к радикальным решениям» [26].