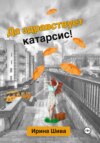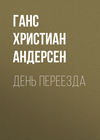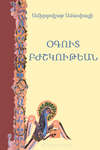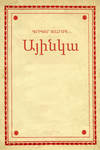Читать книгу: «Воспоминания случайного железнодорожника», страница 29
Но возникал второй вопрос: почему БАМ пострадал, а соседние дороги не жалуются. Да я и сам помнил, что в депо Хабаровск-II колёса подтачивали на плановых видах ремонта, но по прокату, а не по подрезу гребней. И уж тем более, не между плановыми ремонтами. Хотя отдельные случаи внеплановой обточки бывали, но по причине образования так называемых ползунов, которые образуются тогда, когда локомотив движется по рельсам, а колёсная пара не вращается. Но это или неправильное управление тормозами со стороны машиниста, либо неправильная регулировка рычажной передачи тормозов, и носит, как правило, случайный характер.
Разгадка крылась в том, что на сети дороги переходили на «новую» колею только при капитальном ремонте пути. А это – ежегодно несколько процентов от их общей длины. А БАМ весь строился сразу на колее 1520 мм. Вот и вся разгадка. Через год или полтора эта «болезнь» колёс парализовала Львовскую железную дорогу, которая, как и БАМ, горная и там много кривых участков, где износ гребней колёсных пар наиболее сильный. Я бывал в кривых участках пути на БАМе и видел на подошвах рельсов толстый след стружки. Конечно, разумным выходом из этой ситуации было бы возврат на старую ширину колеи, тем более, что следом массово начали «болеть» практически все дороги МПС. Но министры не ошибаются! Поэтому начали искать способы смазки тех участков пути, где наблюдался наиболее интенсивный износ рельсов и колёсных пар. Впоследствии новый министр Фадеев разрешит увеличить ширину колеи в кривых участках железнодорожного полотна, но, судя потому, что и ныне поезд, рекламирующий достижения ОАО «РЖД», показывает устройства, смазывающие и рельс, и гребень колеса в момент прохода подвижного состава, эта проблема сохраняется до сих пор.
После ознакомления с дорогой Валерий Александрович Горбунов направил меня с Председателем Государственной комиссии Гуковым (он же первый заместитель начальника дороги) на Северобайкальское отделение принимать очередной сдаточный участок от строителей. При этом он предупредил меня, что Северобайкальское отделение электрифицируется, потому в следующем году я буду там сам принимать следующий участок и как локомотивщик, и уже как имеющий опыт работы с электрифицированным участком на Забайкальской дороге. Там я познакомлюсь с управляющим трестом «НижнеАнгарсктрансстрой» Романовым Александром Павловичем. С ним мне придётся в последующие два года тесно и долго работать на очередных сдаточных участках железной дороги. Оговорюсь сразу, впечатление о нём у меня осталось самое хорошее. Полное взаимопонимание в вопросах объёма и качества работ. В целом у меня сложится впечатление, что качество земполотна на Северобайкальском отделении выше, чем на Ургальском и Тындинском отделениях.
Но это всё сложится позже. А пока я вникал в то, что производится строителями для функционирования БАМ ж.д. А это: дорога с её мостами, выемками, тоннелями и откосами; жильё, школы, медучреждения, вокзалы, производственные объекты железнодорожников (депо, вокзалы, помещения дежурных по станции, конторы и цеха связистов, путейцев, энергетиков), котельные.
Знакомство с начальниками СМП также оставило положительное впечатление: они знали, что от них требуется. Некоторые позже даже жаловались на замминистра, который понуждал их для сдачи объектов в назначенные сроки халтурить. Но если строители действительно работали, то железнодорожники бездельничали, т.к. движение поездов по главному бамовскому ходу было чисто символическое. Вспоминаю разговор с одной дежурной по станции. Я там вынужден был ждать освобождения перегона от встречного поезда, чтобы следовать далее.
Напоминаю, что скорость движения поездов по ОВЭ была не более 30 км/час. Перегоны длинные, ждать долго, поэтому зашёл к дежурной по станции. Дама с Украины. Звать Оксана. Жалуется, что её обманули, т.к. обещали огромную зарплату, а её нет. Интересуюсь, а сколько есть. Называет цифру. Она несколько выше, чем у дежурных по станциям Транссиба. Работает второй год, стало быть, северные надбавки почти «не капают». Видя начальство, туда же зашёл и старший осмотрщик вагонов. С той же жалобой – платят маловато. Задаю вопрос: сколько поездов за полсмены вы обслужили. Ответ: один. Объясняю, что за более низкую зарплату на Трансибе за это же время железнодорожники обслужили в том и другом направлении не менее 30-40 поездов. Идите работать туда, если здесь вам не нравится. Замолчали. Подтверждение того, что на БАМ многие ехали только за длинным рублём.
Ещё на одной станции дежурная рассказала, что она с Транссиба. Приехала на БАМ с целью приобретения жилья. Трудолюбивая. От скуки она взялась подкрасить заборчики у перрона – делать-то нечего, поезд когда ещё будет! Так её другие дежурные задолбали, опасаясь, что и их начальник станции заставит что-то полезное для станции сделать.
В локомотивном и вагонном хозяйстве, как и ожидал, в руководстве встретил случайных людей. Незадолго до моего приезда сменился начальник локомотивного депо Тында. Локомотивное депо Тында имела в сравнении с другими депо большую нагрузку, так как везло тогда не только редкие поезда на восток и запад, но и интенсивно вывозила нерюнгринский уголь и лес с северной ветки, уже проложенной в Якутск. Смена произведена правильно. До этого на этой должности работал человек с Забайкальской дороги. Там он руководил оборотным депо: ремонтом никогда не занимался в силу отсутствия такой необходимости, своего приписного парка локомотивов то депо не имело. Я его знал, ещё работая на Забайкальской ж.д. Выше того уровня, который он занимал на Заб. ж.д., его поднимать было нельзя. А на БАМе его поставили начальником самого крупного депо с большим приписным парком локомотивов. И он не справился. Его от этой должности освободили. Назначили Е. Кундури, у него был и опыт работы с людьми, и кругозор. О снятом вспоминали, что он постоянно всем угрожал: сниму. Его за это и прозвали фотографом.
Удивит в этом депо меня заместитель начальника депо по ремонту. Однажды, видя, что в депо много тепловозов стоит в ремонте, я позвонил ему и сказал, что сейчас к нему приеду, чтобы разобраться на месте по каждому тепловозу. Я так делал в Хабаровске, выезжал из управления в депо и вместе с замом по ремонту обсуждали каждый тепловоз. Заодно прояснялось, чем я мог бы им помочь. Так вот, когда я приехал в депо Тында, зам по ремонту куда-то от меня спрятался, и его не могли найти. Пришлось разбираться с начальником депо.
Об этом заме надо рассказать подробнее. До Тынды он проживал и работал в Сковородино. Бамовцы приписной парк локомотивов имели, но ремонтной базы у них первоначально не было. Поэтому Тында по договору с Заб.ж.д. ремонтировала свои тепловозы в депо Сковородино. Там бамовцы и наняли этого зама ремонтировать бамовские тепловозы. Новые тепловозы первоначально в содержании особых проблем не создают. Новоиспечённый бамовский зам был принят в штат депо Тында. Стало быть, на него пошли все бамовские льготы вместе с северными надбавками. Но проживал-то он по-прежнему в своей сковородинской квартире, со своей семьёй. Мало того, он оформил себе здесь и командировку. То есть получал ещё и командировочные. В общем, «доил» БАМ по полной.
С появлением ремонтных цехов в Тынде, он вынужден был переехать в Тынду. Естественно, в новую квартиру. Старую квартиру забронировал – такое право у него было. Ремонт в депо Тында тяжёлый, работы много, тепловозов тоже много, т.к. депо вывозило уголь с Нерюнгри и лес с района на Транссиб. Парк локомотивов старел. Я не понаслышке знаю, что требовалось от зама по ремонту – нервный рабочий день продолжительностью не менее 12 часов.
В Тынде его соблазнила молодая работница – начальство любят. С прежней женой разошёлся. Молодой жене муж нужен каждую ночь. А он, вымотавшись на работе, придя домой, ел, падал в постель и засыпал. Шло время. Юная жена присмотрела или её кто-то присмотрел, но она стала мужа игнорировать. В депо все это знали. Дело шло к разводу, но проживали они пока в одной квартире вместе и с двумя совместными детьми. Не знаю, по какой причине жена отправила детей к своим родителям. Они остались временно в квартире вдвоём. Какой конфликт произошёл вечером после возвращения мужа с работы, никто сейчас не скажет. Но утром их обоих не оказалось на работе. Гонец на квартиру и последующий разбор выявил: жена задушенная была в постели, муж со вскрытыми венами на руках лежал мёртвый в луже крови в прихожей квартиры. Вот такая драма разыгралась в депо. Причина: легкомыслие с обеих сторон в семейных (и не только!) делах.
Ещё «интересный» случай вспоминается. Объезжая с проверкой восточный участок БАМа, в воскресенье я планировал быть в депо Тырма. Предупредил об этом начальника депо. Приезжаю. Захожу в депо. «Где начальник?» – спрашиваю. По рангу начальник депо должен был меня встретить на вокзале и доложить об обстановке в депо и на линии. Оказывается, тот уехал на охоту. Я знал по прошлой работе в Тырме отца этого начальника. Корысть была руководящим стимулом того на работе. Остальное – вторично. Соответствующее воспитание получил и его сын.
Многие руководители не соответствовали ни по деловым способностям, ни по нравственным качествам занимаемой должности. Чувствовали себя временщиками. Об этом мне при назначении на должность говорил и начальник Главного управления локомотивного хозяйства Павел Ильич Кельперис. Он советовал набирать кадры из местных: сибиряков и дальневосточников. К этому выводу потом пришёл и я. Но горбачёвская перестройка привела к гласности. А «гласность» гласила: БАМ – дорога в никуда. Дурь высшей пробы! А что тогда могли говорить и писать в конце XVIII века, когда царь строил Транссиб? Любая тропа в тайге ценна. А тут целая железная дорога прошла по глухой тайге, по местам богатым полезными ископаемыми. И это дорога – в никуда!? Но статьи своё дело сделали: мои предложения к специалистам Забайкальской и Дальневосточной железной дороге переехать жить и работать на БАМ получали отказ. «Дорогу–то скоро закроют», – говорили они. С открытием сквозного движения по всему БАМу кадровый голод обострится ещё сильнее. Но это чуть позже. А пока…
В 1988 году я был назначен председателем Государственной комиссии по приёмке участка Уоян – Ангаракан Северобайкальского отделения дороги в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурской ж.д. За мной был закреплён служебный вагон, в котором я и выехал из Тынды в Северобайкальск. На границе отделения меня встречали управляющий трестом, начальники причастных строительно–монтажных поездов (СМП), начальник Северобайкальского отделения со своими замами. В служебном вагоне управляющего трестом Нижне-Ангарсктрансстрой был приготовлен шикарный ужин с коньяком и икрой. Поскольку я прибыл к границе отделения поздно вечером, то знакомство сразу перенесли в подготовленный вагон управляющего. Несколько хозяева были разочарованы тем, что я уже давно не принимаю алкогольных напитков, так как занимаюсь бегом. (А бегал я тогда уже и по 20 километров.) Разочарованы они были ещё и тем, что я с детства не люблю красную икру, а потому её не ем. Но знакомство состоялось, и продукты не пропали.
Фамилий начальников поездов я за давностью времени не помню. А вот начальника Северобайкальского отделения дороги М.Кутузова запомнил навсегда. Он ранее работал заместителем начальника Улан-Удэнского отделения Восточно-Сибирской дороги. Хозяйственник из него получился хороший. Обладал он и юмором, подчинённые его уважали, а он их оберегал. Позже я приведу некоторые примеры. Зная, что построенного по титулу БАМа жилья для всех работников отделения не хватит, он организовал самострой. Материалы брал у строителей, специалистов нашёл в своём штате. Постепенно у него вырос небольшой посёлок из одноэтажных деревянных домов с приусадебными участками. Не знаю, носит ли сейчас тот посёлок имя, которое ему присвоили жители тогда: Кутузовка.
Он любил выпить и защищал таких же своих подчинённых. Во всяком случае, когда я не нашёл на работе начальника дистанции электроснабжения (а мне подсказали, что он нетрезвый и прячется от меня), Кутузов несколько дней прятал его от меня потом уже трезвого, зная, что я таких наказываю строго. Одновременно он убеждал меня, что его надо простить, т.к. он трудолюбивый и знающий своё дело человек. В конце концов, я с НОДом согласился. А при встрече со мной тот начальник дистанции пообещал вообще перестать употреблять алкогольные напитки. Позже я интересовался: он слово сдержал. Польза есть!
Был на том отделении и начальник вагонного отдела из серии, которых туда не надо было принимать. Бездельник. Его надо было постоянно гонять. Но он был и холуй высокой квалификации. Выступал на совещаниях правильно, весь в заботах о работе и подчинённых. Но, то были слова. А на деле? Вечером после пробежки мне надо было принять душ. Его я заранее предупредил об этом и спросил: «На ПТО душ работает?» Он заверил, всё в порядке, мойтесь. Захожу на ПТО. Начальник сидит в кабинете, дождался меня и уверяет, что он только что проверил душ – вода есть и холодная, и горячая. Раздеваюсь, захожу под душ. Включаю: бежит только холодная. Закрываю холодную, включаю только горячую – ни капли. Спрашиваю у слесаря, переодевающегося после смены: «Давно нет горячей воды?» Отвечает, что уже около месяца. Начальника я не нашёл. Он тоже долго прятался. Но позже взыскание он получил уже «в сумме».
Не могу не вспомнить «секретное» Постановление ЦК КПСС. Его я прочитал в первой половине 1987 года в МНР, в монгольской газете на русском языке. Ничего там секретного я не заметил. Таких постановлений бывало много. Но осенью в Тынде чекист из секретного отдела вошёл в мой кабинет и положил на стол то постановление. Я должен был при нём ознакомиться с текстом и расписаться. Понятно, никому из посторонних не разбалтывать его содержание. Когда я сказал ему, что это постановление читал почти полгода назад в свободно продаваемой монгольской газете, он не повёл и бровью, не высказал удивления, а потребовал поставить роспись. Так играем в секретность, поднимаем свою значимость.
Почти всё лето 1988 года я провёл на сдаточном участке. Всё шло в рабочем порядке, и особых впечатлений у меня не осталось. Но два эпизода память сохранила навсегда. К окончанию строительства сдаточного участка Уоян – Ангаракан на станции Ангаракан произвели очистку от вагонов: все скопившиеся на станции вагоны вывезли на перегон. Ну, чтобы они не мешали осматривать и принимать пути. Перегон был с уклоном 40 тысячных. По нему осуществлялась передача вагонов через Северо-Муйский хребет. Этот путь был временным, постоянный пойдёт через тоннель длиной более 15 км, который ещё пробивали.
Утром я приехал на эту станцию. Она была вся загромождена сваленными вагонами. Оказывается, вагоны с 40-тысячного уклона пришли в движение (плохо закреплены!) и на станции сделали кучу – малу. Спрашиваю управляющего, как будете отчитываться? Убытки приличные, вагоны в основной массе подлежат списанию. Но строители выкрутились. Они взяли у сейсмологов справку, что в эту ночь было слабое землетрясение. Вот оно и стало причиной, что вагоны пришли в движение. На том и успокоились. Как крепили эти вагоны на перегоне? Никто и не вникал!
Второй запомнившийся момент. Ко мне обратился начальник ПМС с марксистской фамилией Ульянов со следующим вопросом. На одном из сдаточных объектов он не может сделать всё как положено из-за отсутствия нужных материалов. Сейчас уже не помню каких. Он говорит, что его замминистра Басин понуждает сделать халтуру, и объект будет успешно сдан. Ульянов поясняет, что через какое-то время это вылезет боком, объект придётся сразу ремонтировать. Просил принять таким, как есть, недоделанным. А он потом по прибытии материалов сделает всё как надо и пригласит меня для приёмки уже готового строения. Я ему поверил. Уже после сдачи, когда я там был в командировке, он мне показал уже доделанный объект. Всё было сделано честно.
Разговаривая с Романовым, я однажды спросил, а как ведёт себя техника строителей при 40-градусных морозах? Он ответил, что наша, советская техника вся останавливается. Работает только японская и германская. Интересный вывод: мы для себя для работы в 40- 50- градусных морозах делаем «теплолюбивую» технику, иностранцы, живущие и работающие при мягком зимнем климате, делали морозоустойчивую технику. Парадоксы!
Интересно вспомнить такой момент. Со мной на пусковом участке дороги постоянно работал главный инженер Треста Миронов. И однажды, после прослушанной какой-то передачи по радио, в которой отмечалась роль в трудовых успехах членов КПСС, он задал мне вопрос: «Вот если бы ты не был членом КПСС, то работал бы также или хуже?» На что я ответил, что на работе о партийности я не вспоминаю. Он сказал, что и ему это подчёркивание не нравится. От того, что он стал членом партии, он трудиться лучше не стал, т.к. и до того работал добросовестно. Просто партия отбирала в свои ряды лучших, а потом, когда погналась за численностью, – всех подряд, кто подавал заявление.
Зимой начальник дороги предупредил всех будущих председателей госкомиссии о том, что вторая половина 1989 года будет посвящена приёмке в постоянную эксплуатацию всех последних участков от строителей. Таких участков было четыре. Один из них (Ангаракан-Таксимо) предстояло принимать мне. Потому Валерий Александрович рекомендовал сходить в отпуск в первой половине года. Жена Пилипцева предложила своему мужу и мне поехать в марте месяце в туристическую поездку в Югославию. Я помнил, что мне запрещается выезжать за границу, как носителю секретной информации. Но Пилипцева сказала, что она спрашивала уже об этом наших чекистов, ведь её муж тоже носитель секретной информации – можно! Я самостоятельно зашёл к «секретчикам», подсказал им, что Югославия не просто заграница, но Югославия приравнена к капиталистическим странам. Ответ был: знаем, можно ехать. Спасибо Горбачёву!
До Москвы члены сформированной группы туристов добирались самостоятельно, а далее уже со старшим в группе – поездом до Белграда. За одну ночь пересекли Венгрию и утром были в Белграде. А будили четырежды, поскольку контроль при пересечении границы был и с одной, и с другой стороны. В Белграде нас встретил гид, который две недели и сопровождал нас как по столице, так и по стране, тогда ещё – Федеративной.
Меня больше всего интересовал уровень жизни югославских жителей и причина, почему Сталин разорвал с ней всяческие связи, назвав её капиталистической, а главу Югославии И. Б. Тито предателем. Первое что меня удивило, это то, что центральная улица Белграда называлась улицей Царя Михаила. Так и написано, буквами кириллицы. Это притом, что правящая партия там называлась Союз Коммунистов Югославии (СКЮ). То есть коммунисты Югославии в отличие от коммунистов СССР не уничтожали прошлую историю под корень. Экскурсия по столице в первый же день убедила меня, что там и с религией живут мирно: есть православные храмы, католические и много мечетей. Все действуют. А когда от гида я узнал, что Тито оставил в распоряжении крестьян по 10 гектаров земли, мне стало ясно, почему Сталин объявил Тито предателем. Тито ослушался «главного марксиста» – И. В. Сталина и строил свой социализм. Говорили, что Сталин вызывал Тито в Москву, но Тито не приехал, зная, как Сталин расправлялся с ренегатами.
Бывая в разных городах и республиках Югославии, убедился, югославы материально жили лучше, чем мы в СССР. На улицах городов все тротуары были загромождены частными автомобилями, как это сейчас в наших городах. Продукты в переводе на наши деньги стоили дешевле, а качество промышленных товаров было выше. Помню, что наши женщины (и не только!) гонялись за югославской обувью, а мне в Чите досталась отличная мебель, произведённая в той же стране.
Тогда я уже знал, что Югославия после нападения Гитлера на СССР объявила войну Германии, и всю войну Гитлер вынужден был держать на территории Югославии 20 (а по признанию в своих мемуарах Черчилля, и до 33) дивизий. Об этом на 20-летии победы в Великой Отечественной войне (1965 г.) начальник генштаба югославской армии и сообщил в своей речи в Москве. Да и Югославию освобождали от фашистов две армии: советская и югославская, тогда она называлась Народно-Освободительная армия Югославии. Обратил внимание на содержание воинских кладбищ, где похоронены советские солдаты. Ухожены могилы лучше, чем наши в СССР, кроме московских.
Сербы относились к нам дружелюбно, расспрашивали о нашей жизни – железный занавес только что был снят, поэтому и мы о них, и они о нас мало что знали. Кстати, гид говорил, что он много раз был в СССР, и пришёл к выводу, что в СССР интерес для туристов представляют только Самарканд и Петербург. Остальные города построены по типовому проекту. Одновременно он сказал, что в Югославии типовое строительство запрещено.
Утром я и в Югославии занимался бегом. Однажды, по-моему, пробегая по набережной Дуная, встретился с гидом. Он тоже занимался бегом. Поздоровались. После этого он стал со мной более откровенным в разговоре. Кстати, он мне сказал, что они про жизнь в Советском Союзе знали больше, чем мы, там проживая. Я попросил назвать какой-нибудь факт. Он уклонился, заявив, что у нас сейчас перестройка и гласность, поэтому вскоре убедимся в этом сами.
В первый же вечер пребывания в Белграде я пошёл на центральную улицу (было воскресенье) и, прохаживаясь между толпами гуляющих горожан, интересовался, много ли среди них пьяных. Не обнаружил ни одного. Об этом тоже спросил гида. Он ответил, что пьяный югослав потеряет лицо, и его никто в свою компанию впредь не пригласит. Ещё он сказал (что меня удивило), что у них рестораны и кафе работают всю ночь. И там никого не удивляет, если два друга закажут по две кружки пива и просидят, разговаривая, за столиком всю ночь.
Честно говоря, меня не очень удивляет, что в Европе к нам, россиянам, относятся плохо. Почему? Я уже писал, что и в Монголии мы вели себя не лучшим образом. Теперь ещё убедился и в Югославии. В каком-то городе наша группа обнаружила дешёвую водку – что-то в пределах 70-ти копеек за бутылку по тогдашнему курсу. Наши туристы в гостинице объединились в одном номере и устроили грандиозную пьянку. Что называется, добрались до халявы. Степень опьянения была такой, что бамовцы стали путать, где чья жена. Поднялся крик и визг на всю гостиницу. Я был в номере в противоположной стороне здания, но рёв хорошо доходил туда. Горничные и администратор никаких мер по погашению шума не предпринимали. Пришлось вмешаться. Стыдно было за страну. Не менее громким голосом я потребовал прекратить бардак и сказал, что их без намордника к границе близко подпускать нельзя. Притихли.
После окончания отпуска начальник дороги направил нас – председателей госкомиссий на свои участки, где нужно было не только контролировать, но затем и принимать свои участки в постоянную эксплуатацию МПС. Я прожил на своём участке (Ангаракан – Таксимо) почти полгода. Примерно столько же рядом со мной жил там и главный инженер треста НижнеАнгарскТрансСтрой Миронов. Строители уже знали свои обязанности, понимали важность момента – передачу министерству путей сообщения – всей стройки БАМа, от Лены до Комсомольска – на Амуре. Поэтому серьёзных трений не было. Проверка выполненных работ происходила по пунктам, недостатки устранялись без сопротивления. Но были некоторые нюансы.
В ходе приёмки одной из электроподстанций выяснилось, что для её окончательного ввода в эксплуатацию требуется дистиллированная вода для заправки аккумуляторов. Строители её заблаговременно забыли заказать, и теперь Романов обратился ко мне за помощью. В пределах Северобайкальского отделения дороги дистиллированную воду никто не готовил. Тогда мне в голову пришла мысль: проверить чистоту воды в Байкале. Даю задание взять две бутылки, промыть их и затем отъехать на лодке от берега Байкала на 100 метров. Там эти бутылки опустить в воду на полметра и заполнить полностью водой. После запечатывания обе бутылки были отправлены в две разные лаборатории с указанием – проверить содержания всех элементов, перечисленных в требованиях к дистиллированной воде. Обе лаборатории считали, что они и только они должны дать заключение по той воде. Анализы пришли почти идентичные, вода удовлетворяла всем нормам дистиллированной воды. Заправили аккумуляторы, всё нормально.
Не могу не вспомнить и такой случай. Год 1989 был, как известно, годом перестройки. Гласность и свобода слова начали расшатывать устои СССР. Республики, которые были «добровольно» присоединены в 1939 году, стали говорить и писать о выходе из СССР. В том числе и Латвия. На Северобайкальском отделении эта республика строила жилой фонд. (БАМ строил весь Советский Союз). Осматривая один многоэтажный дом, я указал старшему прорабу – латышу – на неудовлетворительную планировку земполотна у входа в один из подъездов. Она была сделана так, что талые и дождевые воды будут течь прямо в подъезд. Указывая, я сказал, что всегда считал, что латыши аккуратный народ, как же так спланировали? На что старший прораб ответил: «А мы обрусели». Свобода слова!?
В период последнего пребывания на сдаточном участке ко мне подходил корреспондент газеты «Комсомольская Правда». Эту газету я уважаю. Корреспондент расспрашивал о строительстве. Я ему многое рассказал о работе строителей, о сложности того участка для ведения поездов (горная местность). Он задал вопрос о временном обходе Северомуйского 15-ти километрового тоннеля с 18 тысячным уклоном. Этот обход заменял 40-тысячный, тоже временный обход, по которому водить поезда было невозможно, а постоянный – это 9-ти тысячный – тоннель ещё пробивался. Интересующий корреспондента обход только что был закончен строительством, подлежал сдаче в постоянную эксплуатацию. И если по другим участкам отделений временной эксплуатации хоть и с малой скоростью, но поезда ходили, то этот участок, так сказать, не был обкатан. Это корреспондента и интересовало. Я пояснил, что возможно на нём и случатся какие-то заминки, но поправим и опять поедем. Чуть позже в названной газете была критическая статья о БАМе – «дорога же в никуда». И там среди прочих названных недостатков была фраза и о моём интервью: «То, что дорогу ждут поражения, признал и заместитель начальника дороги С.Ишутин». Вот и всё, что он извлёк из почти часовой беседы со мной.
БАМ был достроен в срок. По ходу стройки я прикидывал его возможности по пропуску поездов. Пришёл к выводу, что более 8 пар Северобайкальское отделение дороги пропустить не может. Это подтвердилось, когда попытались принять одиннадцать поездов с Восточно-Сибирской дороги по станции Лена, то три поезда пришлось, как говорят движенцы, бросить на промежуточных станциях. И когда ко мне пристал корреспондент Советского радио и телевидения с вопросом о начале работы БАМа на всём полигоне, я не мог его обрадовать словами: "Пусть дают поезда, мы их все повезём". Хотя ему хотелось именно этого. Я врать не мог, но не мог сказать и правды: мало локомотивов, требуется много локомотивных бригад против того, что уже было. И если локомотивы Главк мог дать прямо с заводов, то локомотивные бригады с заводов не дашь – их надо было готовить. А это процесс небыстрый. Можно было бы переманивать с других дорог, но для этого требовалось жильё. А его строительство уже было, как я уже писал, практически закончено, и жилье заселено. Куда селить новые бригады? Путейцы, движенцы, связисты и даже вагонники укомплектовались в ходе строительства дороги и все получили квартиры. Просто их штат теперь от бездельной работы переходил к работе в полную нагрузку. Машинистов и их помощников было столько, сколько шло поездов по главному ходу: два – три.
С наступлением морозов я вновь выехал на Северобайкальское отделение. Там проявились недостатки в работе автоблокировки и состоянии пути. На месте выяснилось, что начальник одной дистанции пути ввёл ограничение скорости движения поездов «предусмотрительно». Спрашиваю: что случилось с участками, на которых появились предупреждения? Ответ: пока ничего, но они подозрительные, поэтому лучше ограничить скорость. Ставлю его перед выбором: или отменяй предупреждения, или докажи строителям, что там есть технические нарушения, тогда я заставлю строителей привести полотно в норму по рекламации. Отменил предупреждения.
И по работе автоблокировки. Мне пришлось вспомнить слова начальника ПМС, которого замминистра понуждал схалтурить на одном объекте с целью его сдачи в срок. Тот начальник на халтуру не пошёл, я об этом уже писал выше. Ну, а по автоблокировке руководитель, видимо, поддался чьему-то уговору. В чём это и сказалось. В релейных шкафах с учётом морозов за 400 должны были ставиться выпрямители на полупроводниках. Поставили ртутные, т. к. нужных вовремя, наверное, на месте не оказалось. Ртуть при температуре минус 37 замерзала. Мне непонятно было вообще, зачем их было заказывать, зная климат на БАМе? После замены, автоблокировка заработала без сбоев.
Окончательно проезжая на локомотиве по отделению дороги с целью убеждения, что недостатки устранены, выявил ещё одну особенность. На одном перегоне машинисту выдали путевую телефонограмму с указанием, что действие автоблокировки отменено по причине её неисправности. Проезжаем перегон – нет замечаний. Спрашиваю по рации дежурную по станции, почему отменена автоблокировка? Ответ: там все светофоры мигают и горят красным. Представляюсь и требую действие автоблокировки восстановить. Задумался тогда, почему так легко отменили передовое средство связи? Пришёл к выводу, что дежурные по станции в период работы на отделении временной эксплуатации всё время выписывали путевые телефонограммы. Другого средства связи для обеспечения безопасного следования поездов там просто не было. Это стало за несколько лет настолько привычно, что всё остальное казалось странным, а потому легче обойтись без осложнений в работе. Отменить!
Находясь там, я стал очевидцем и первого крушения поезда после открытия сквозного движения поездов по широтному БАМу. Крушение поезда произошло на разъезде, расположенном на обходе Северомуйского тоннеля. Как раз на том обходе, которым интересовался журналист. Но причина беды не в качестве строительства, а в обычном разгильдяйстве уже эксплуатационников.
Пока строилась магистраль, разъезд находился в распоряжении отделения временной эксплуатации. Для работы на этом раздельном пункте базировался маневровый тепловоз. Для его экипировки на специально построенном тупике стояла цистерна с топливом. Рядом обычно стоял, если не было работы, и тот тепловоз. Там же обычно менялись и локомотивные бригады. При пересмене, по какой либо причине распивались и спиртные напитки. Когда напитка не было или было, но мало, они ездили на том тепловозе к расположенному в нескольких километрах населённому пункту, где был магазин. Переводили стрелку в нужном направлении и выезжали из тупика на главный путь. При том размере движения поездов они никому не мешали. Вернувшись, возвращали стрелку в правильное положение.