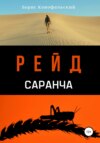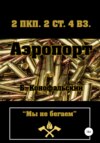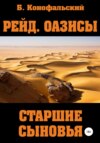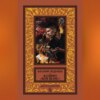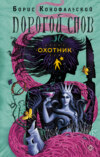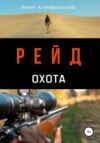Читать книгу: «Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта», страница 3
Становится понятно, почему Л. С. Клейн, имеющий столь оригинальный взгляд на соотношение материи и духа, обвиняет Гумилева в вульгарном материализме. Ясности в вопросе происхождения пассионарных толчков после этого у нас, конечно, не прибавилось, но теперь мы точно знаем, что Лев Николаевич и его критики по целому ряду вопросов говорили на разных языках и понять друг друга не имели никакой возможности.
Таким образом, восприятие теории пассионарности в основе своей имеет мировоззренческий характер и определяется взглядами оценивающего «на соотношение природы и общественного человека» [26]. Сам Гумилев выделял три точки зрения, существующие по этому вопросу. Первая относит человека и его деятельность всецело к природным явлениям. Это и есть природный детерминизм. Подлинный природный детерминизм на современном этапе развития науки можно считать большой редкостью.
Вторая признает, что когда-то человек был неотъемлемой частью природы, но на современном этапе жестко разделяет социальное и природное, считая «все феномены, связанные с человечеством, социальными, делая исключение лишь для анатомии и отчасти физиологии» [26].
Третья точка зрения заключается в том, что в «антропогенных процессах различаются проявления общественной и комплекса природных (механическая, физическая, химическая и биологическая) форм движения материи» [26]. Она в современной науке представлена, но не в гуманитарной, как правило, среде. Среди авторитетных представителей естественных наук вопросы к теории Гумилева возникают. Однако она не объявляется на этом основании антинаучной.
В работе «Синергетика и прогнозы будущего» (С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий) можно встретить такую оценку теории Льва Николаевича: «Эта концепция представляется глубокой и содержательной, однако ее использование в математическом моделировании требует ответа на вопрос, каким образом пассионарность, хотя бы в принципе, может быть измерена. <…> В этой самосогласованной и убедительной концепции, подтвержденной многочисленными историческими изысканиями, наиболее уязвимым моментом, вероятно, является начальная стадия возникновения этноса, так называемый пассионарный толчок. Сам автор концепции связывал его с некими „мутациями“ либо с неизвестными космофизическими факторами. Развитие нелинейной динамики показывает, что можно обойтись без этих не вполне понятных и вызывающих сомнение сущностей. Возможности для этого предоставляет активно развиваемая в последние годы теория самоорганизованной критичности» [39].
Синергетический подход не отделяет этносы от других систем и решает практические вопросы прогнозирования, оставляя за рамками своих интересов фундаментальные вопросы природы этносов. Тем не менее, мы видим, что авторы работы не отвергают принципиальной возможности обсуждения положений теории пассионарности. Вообще, как отмечает Анатолий Иванович Чистобаев, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, труды Льва Николаевича были высоко оценены представителями точных и естественных наук.
Можно привести и примеры отсутствия непреодолимых противоречий между концепцией Гумилева и некоторыми этнологическими теориями, но это обстоятельство обыкновенно категорически отрицается, так как фигура Льва Николаевича стараниями критиков стала токсичной; никто не хочет компрометировать себя подобными параллелями.
Большой редкостью среди этнологов является подход к проблеме, который был продемонстрирован историком и этнологом Сергеем Викторовичем Чешко в статье «Человек и этничность»: «Совсем не обязательно соглашаться с географо-энергетической интерпретацией этноса Гумилевым, с биологизацией этноса Широкогоровым. Однако оба исследователя, как мне кажется, наметили интересный подход к интерпретации той, „заопытной“ области этничности, в которой, наверное, и скрывается ее суть. Если „очистить“ этничность от всех сопутствующих ей переменчивых факторов, внешних атрибутов, ситуативных проявлений, то она обнаружит себя как недетерминированный никакими материальными причинами социальный инстинкт – инстинкт коллективности. Но не какой-то ойкуменической „соборности“, а именно коллективности, т. е. единства двух противоположных начал – группирования и разделения. Человек не может существовать в одиночку, а человечество не может существовать в недифференцированном (несгруппированном) виде» [127].
Здесь можно спорить о «недетерминированности никакими материальными причинами социального инстинкта», так как по Гумилеву он имеет волновую, т. е. материальную природу, но появляется поле для дискуссии. Однако в современном мире глобализации, стремящемся стереть национальные границы, взгляд на этносы как исключительно социальное, т. е. конструируемое (квазиреальное) явление преобладает.
Все вышеперечисленное делает сомнительной аргументацию «антикосмической» критики пассионарных толчков и вообще пассионарности со стороны оппонентов Л. Н. Гумилева. На критике пассионарности как заимствования из пресловутой теории «героев и толпы» Николая Константиновича Михайловского мы подробно останавливаться не будем, так как в ней (критике) нет ничего кроме искажения смысла текстов Гумилева и традиционного возмущения по поводу превозношения «героев» и умаления обычных людей, представителей «толпы».
Скажем только, что и Михайловский не имел в виду того, что ему вменяется. Он четко определял, что «герой» – «не первый любовник романа и не человек, совершающий великий подвиг. Наш герой может, пожалуй, быть и тем и другим, но не в этом заключается та его черта, которой мы теперь интересуемся. Наш герой просто первый „ломает лед“, как говорят французы, делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы со стремительной силой броситься в ту или другую сторону. И не сам по себе для нас герой важен, а лишь ради вызываемого им массового движения. Сам по себе он может быть, как уже сказано, и полоумным, и негодяем, и глупцом, нимало не интересным» [73].
Иногда в работах Льва Николаевича встречаются то ли фактические ошибки, то ли недоразумения. И. Ю. Смирнов указывает на то, что среди причин, «породивших в научных кругах недоверчивое и скептическое отношение к теории этногенеза, нельзя не указать содержащиеся в трудах этнолога очевидные фактические ошибки» [104]. Иван Юрьевич даже приводит небольшой список ошибок, которые в «досадном количестве» встречаются в «Этногенезе и биосфере Земли». В этом перечне фигурируют то «невероятные „угро-самоеды“ (с. 194), то не менее фантастический „протомалайский этнос Юе“ (с. 169). Автор смешивает батат с картофелем и заставляет полинезийцев плавать на бальсовых плотах (с. 297)» [104].
Кажется сомнительным, что географ Гумилев путал батат с картофелем, а комментарии И. Ю. Смирнова, разъясняющие разницу между угорской и самодийской («самоедской») языковыми группами или просвещающие относительно этнонима Юе, наводят на мысль, что Лев Николаевич вполне мог разбираться в этих вопросах, но и на них иметь свой оригинальный взгляд. Не факт, что этот взгляд был верным. Поэтому можно считать это фактическими ошибками или предъявлять претензии в связи с отсутствием каких-либо пояснений на этот счет, но сложно не согласиться с Иваном Юрьевичем Смирновым в том, что «мелочные придирки из-за ошибок по частным вопросам» [104] будут несправедливыми.
В защиту этой позиции Смирнов даже проводит параллель с Кантом: «Иммануил Кант в своих лекциях по географии в Кенигсбергском университете сообщал студентам, что бывают хвостатые люди, а живут они в степях вблизи Оренбурга. <…> Однако стоит ли принимать в расчет подобные заблуждения при общей оценке великого немецкого философа? Очевидно, это было бы несправедливо. <…> Так что следует ценить те оригинальные идеи, которые выдвигал Лев Николаевич, и не придавать первостепенного внимания его ошибкам» [104].
Взвешенно следует подходить и к интерпретации тех или иных исторических фактов и событий. Их оценка – практически всегда вопрос крайне субъективный. В связи с этим надо сказать несколько слов об исторических фактах, их трактовке и непоколебимой вере в летописные источники.
Когда Л. Н. Гумилева обвиняют в жонглировании фактами и их вольной интерпретации, следует понимать, что подобные претензии можно предъявить практически любому историку, так как в значительной степени история и есть интерпретация, то есть объяснение, истолкование того, что нам неизвестно доподлинно. А часто и «известное» есть не что иное, как более ранняя трактовка. «Вольность» же доказуема только тогда, когда имеют место нарушение логики и противоречие фактам – фактам, а не их интерпретации, даже авторитетной.
Простой пример. Известно, что Александр Невский умер в ноябре 1263 года в Городце, возвращаясь из Орды. Существует несколько версий относительно причин его смерти. Доминирующей является версия естественных причин. Но есть и сторонники версии отравления князя в Орде. Большинство из них полагает, что отравители – ордынцы, а Л. Н. Гумилев – что если кто и отравил, так это европейцы, которых в Орде тоже было много.
Так вот, смерть Александра Невского – это исторический факт. Обстоятельства ее (время, место и т. п.) – тоже, если они подтверждаются разными независимыми источниками. Причины смерти – интерпретация, непосредственно зависящая от взгляда интерпретатора на взаимоотношения между Русью, Ордой и Европой, то есть от решения вопроса «кому выгодно?»7. При этом, как правило, сторонники одного взгляда объявляют свою трактовку убедительной версией, а соображения оппонента – домыслами.
Еще больше осложняется попытка найти истину, когда более или менее нормальная дискуссия подменяется противостоянием «общепринятой точки зрения» и «фантазиями» неких маргиналов. В этом случае вес каких-либо доказательств совершенно обесценивается, а определяющим победителя фактором становится информационный ресурс и авторитет (иногда реальный, нередко сомнительный) в научных кругах. Столкновения Гумилева и его оппонентов по поводу конкретных исторических событий чаще всего носят именно такой характер, что, конечно, не делает Льва Николаевича правым автоматически, но должно приниматься во внимание.
Теперь о летописях. Мы часто забываем, что летописец – всего лишь человек, который может ошибаться, «врать как очевидец» и даже быть ангажированным кем-то. Это относится к «летописцам» всех времен и народов, независимо от их орудия труда (перо, пишущая машинка или ПК). Как писал Д. С. Лихачев, «источники могут тенденциозно искажать факты, следуя каким-то своим концепциям и раскрывая свои идеи. Поэтому задача историка не сводится к выбору источника своего повествования, а она заключена в открытии истины, сознательно спрятанной автором-современником» [61].
Однако нельзя сказать, что критики Гумилева отрицают значение этого фактора. И в этом смысле их методологические претензии к историческим трактовкам Льва Николаевича до известной степени оправданны. Гумилева часто упрекают в пренебрежении к источниковедению вообще и методу научной критики исторических источников в частности.
Так, Яков Соломонович Лурье в статье «К истории одной дискуссии» отмечает принципиальное различие между догадками, «простыми предположениями о возможности того или иного» и гипотезами, вытекающими в работе историка из анализа источников: «Науки о прошлом отличаются от иных эмпирических наук недоступностью „непосредственного наблюдения“. Тем более недопустимым представляется введение в эти науки построений, не вытекающих с необходимостью из материала источников» [65]. Гумилев же «начисто отвергает всякое источниковедение, объявляя его „мелочеведением“, при котором „теряется сам предмет исследования“» [65].
«Мелочеведение» – термин Гумилева (на наш субъективный взгляд, очень удачный), но вряд ли справедливо обвинение, что Лев Николаевич вообще отвергал какое-либо значение исторических источников. Однако вопрос «откуда взял Гумилев известия о…?» вполне обоснован. В данном случае недоумение Я. С. Лурье касается хана Мамая и его договоренностей с генуэзцами, но список этот можно долго продолжать, так как Лев Николаевич, делясь с читателями своими выводами, далеко не всегда давал себе труд объяснить, откуда они взялись.
Сложнее согласиться со следующей мыслью Я. С. Лурье: «Летописцы могли быть и часто действительно были тенденциозны, но эта тенденция отражалась в первую очередь на описании событий близкого им времени. В изложении событий далекой древности она выражалась лишь в отстаивании исконных династических прав Рюриковичей. Главное, к чему стремились составители ПВЛ и Начального свода, – разобраться в противоречивых и часто легендарных сказаниях о событиях IX–X вв. и, по возможности, датировать их. Подозревать Нестора и его предшественника конца XI в. (которого уж никак нельзя обвинить в „западничестве“) в коварных умыслах при изложении событий давно минувших лет нет оснований» [64]. Перед нами чистой воды интерпретация, субъективный взгляд самого Лурье, так как его убеждение в отсутствии «коварного умысла» предшественника Нестора и объяснение якобы истинных мотивов последнего не менее бездоказательны, чем противоположное мнение Гумилева.
Спорно и утверждение Лурье, что провалы в летописании исторических событий не подлежат трактовке: источники могли не сохраниться по объективным причинам, но могли быть и сознательно уничтожены. Последнее требует мотива и открывает широкое поле для различных толкований. Таким образом, в полемике относительно исторических фактов и их летописного отражения мы часто видим противоположные точки зрения Гумилева и его оппонентов одинаковой степени (в лучшем для оппонентов случае) субъективности.
Однако метод доказательств, используемый Гумилевым, не бесспорен, так как сами исторические события, призванные проиллюстрировать и доказать теорию этногенеза, трактуются сквозь призму положений этой, еще не доказанной, теории. Поэтому иллюстрациями к ней исторические примеры являются, но в качестве исчерпывающей доказательной базы не могут быть приняты, так как отбиться в этой ситуации от обвинений в тенденциозном их подборе попросту невозможно.
Наряду со спорностью ряда исторических трактовок в произведениях Льва Николаевича можно найти противоречия, которые часто смущают даже его сторонников. Одним из критериев, которыми руководствуется наука, стремясь к объективности и достоверности полученных результатов, является критерий внутренней непротиворечивости, которая обеспечивается соблюдением основных законов логики в рассуждениях и выводах ученого. Работы Льва Николаевича с этой точки зрения не всегда выглядят безупречными.
Так, например, возникает путаница, связанная с понятиями эгоистической и антиэгоистической этики. Пассионарность Гумилев трактует как качество, противоположное инстинкту выживания. В одном случае он пишет, что оно исключает лишь равнодушие, с равной степенью «порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло», в другом отмечает антиэгоистическую направленность пассионариев, «где интересы коллектива, пусть даже неверно понятые, превалируют над жаждой жизни и заботой о собственном потомстве» [26].
При более подробном знакомстве с теорией этногенеза мы обнаруживаем, что эта направленность в акматической фазе проявляет себя каким-то странным образом и более всего напоминает эгоизм в чистом виде. Однако для Льва Николаевича в этом никакого противоречия нет, и в этом случае он отмечает наличие высокой внутренней ответственности перед коллективом, понимаемым в узком смысле, – перед кланом, родом и т. п. Но коллектив этот в акматической фазе столь часто и кардинально противопоставляет свои интересы общественным, что грань между эгоизмом и альтруизмом размывается совершенно. Все зависит от того, с какой точки зрения наблюдатель оценивает соответствующее деяние – с точки зрения общественной пользы в широком смысле или узкоклановых, семейных и прочих групповых интересов.
Разбираясь с этим вопросом еще более подробно, мы обнаружим, что эгоизм и альтруизм в общепринятом смысле – это вообще не о пассионарности. Пассионарность противоположна лишь эгоизму, понимаемому как приоритет инстинкта выживания перед всеми остальными побуждениями, т. е. в чисто биологическом смысле. На уровне социального поведения, согласно теории Гумилева, примешивается такой фактор, как аттрактивность, противопоставляемая «разумному эгоизму».
Увлекаясь какой-либо мыслью, Лев Николаевич не всегда достаточно четко ее формулирует; еще чаще искажения вносятся благодаря произвольной трактовке читателем терминологии, предложенной Гумилевым. Таким образом, чтобы разобраться в некоторых разночтениях, необходимо основательно «вжиться» в его теорию, но даже в этом случае остается риск субъективных трактовок, делающих их дискуссионными. Возникает законный вопрос: существуют ли причины, служащие оправданием этому занятию, стоит ли тратить на это время и силы?
Положительный ответ на этот вопрос, основанный на непреходящей актуальности поднятых Гумилевым проблем, и побудил автора к написанию данной работы, состоящей из четырех частей. Первая часть содержит некоторые пояснения к самой теории этногенеза. Их необходимость связана с двумя обстоятельствами: повсеместным искажением смысла базовых понятий, введенных Гумилевым, и обилием исторических примеров, фактов и их интерпретаций, сквозь дебри которых Лев Николаевич пытается подвести своего читателя к пониманию сути этногенетических преобразований в процессе развития этнических систем.
Л. Н. Гумилев писал: «…прежде чем излагать историю страны или народа, надо увидеть ее самому, а смотреть тоже можно по-разному: с птичьего полета, с вершины холма, из мышиной норы. В каждом случае мы что-то заметим, а что-то упустим, но совместить все три уровня рассмотрения невозможно» [23].
Сам Лев Николаевич, обладая прекрасной памятью и высокой эрудицией, превосходно себя чувствовал на всех уровнях и легко между ними перемещался. Надо отметить прием, позволяющий Гумилеву оставаться на соответствующей высоте, высоте птичьего полета, – широкую панораму. Это означает, что рассматривается огромная территория, иногда большая часть Евразии целиком. Взгляд автора охватывает ее всю, при необходимости фокусируясь на какой-то конкретной пространственно-временной точке. Следует перечисление имен и дат, описание событий и их объяснения с точки зрения той или иной фазы этногенеза.
Неподготовленный читатель8 непроизвольно соскальзывает на другой уровень рассмотрения, пытаясь разобраться с предложенной информацией и ее трактовкой, вольно или невольно застревает на деталях. Перспектива неизбежно теряется. А Лев Николаевич уже за тысячу километров, нырнул в очередной водоворот событий. Эта особенность работ Гумилева отмечается не только критиками. В качестве примера можно привести замечание редактора одной из книг Льва Николаевича, который вполне расположен к ее автору: «Ваша книга так насыщена историческим материалом, и так легко и свободно Вы с ним обращаетесь, что читатель, уйдя в интереснейшую фактологию, подчас теряет логику Вашей научной мысли» [21].
Однако Гумилев предложил теорию такой степени обобщения, что уровень восприятия «с высоты птичьего полета» должен непременно присутствовать. Под иным углом зрения адекватно ее воспринять невозможно. Спуски на другие уровни необходимы для формирования связей между кусочками исторического пазла, но целостному восприятию алгоритма развития этноса они часто мешают. Поэтому максимально схематичное и упрощенное изложение динамики этногенеза может оказаться не только полезным, но и необходимым.
Вторая часть работы посвящена краткому рассмотрению истории Руси и России с опорой на положения теории этногенеза. Основная задача ее заключается в демонстрации того, что даже противоположные гумилевским трактовки исторических событий не служат подтверждением ошибочности его теории, а зачастую косвенно ее подтверждают.
За основу были взяты труды таких авторитетов исторической науки, не запятнавших себя пренебрежением к историческим источникам, как Н. М. Карамзин9, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов. При обращении к работам этих именитых историков видно, что многие выводы Гумилева, даже формально противореча выводам их авторов, прямо следуют из приведенных ими фактов и имеющихся в их логических построениях противоречий. Некоторые трактовки исторических событий Львом Николаевичем мы позволили себе подвергнуть сомнению, но исходили при этом исключительно из положений его теории.
Задача третьей части – небольшая иллюстрация того, как естественный ход этногенеза и его возможные искажения придают развитию этноса в разных исторических обстоятельствах индивидуальную неповторимость, за которой, тем не менее, можно разглядеть общие закономерности. Наконец, четвертая посвящена картине дня сегодняшнего. Если теория Гумилева в основе своей верна, то она должна непротиворечиво описывать современный мир и обладать определенной прогностической ценностью.
Предлагаемая читателю работа не претендует на научность и является приглашением к размышлению на тему, которая нам представляется важной. Автор оставляет за собой право высказывать собственные соображения по тем или иным вопросам, касающимся теории Гумилева, а также выражать сомнение или несогласие с некоторыми выводами Льва Николаевича.