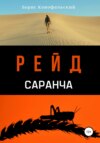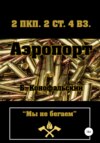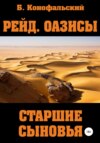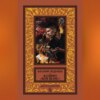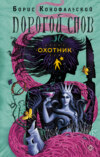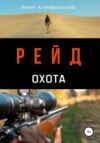Читать книгу: «Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта», страница 4
Часть I
Глава 1. Пассионарность и ее свойства
Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»
Понятие «пассионарность», предложенное Львом Николаевичем Гумилевым, является для теории этногенеза основополагающим. Возникновение новых этнических систем сопровождается всплеском рождения людей пассионарных, а изменение количества пассионарной энергии в этнической системе влечет за собой смену фаз этногенеза. Поэтому так важно понимать смысл понятий «пассионарность» и «пассионарий». Тем более что при полнейшем пренебрежении научного сообщества к теории этногенеза в целом термин «пассионарность» получил как в обывательской, так и в научной среде широкое распространение, и часто можно наблюдать, как даже серьезные эксперты употребляют его весьма вольно.
Под пассионарностью Лев Николаевич Гумилев понимал избыток биохимической энергии, который определяет способность к сверхнапряжению. В поведении людей (пассионариев) эта энергия порождает страстность и жертвенность. «Для пассионариев характерно посвящение себя той или иной цели, преследуемой иной раз на протяжении всей жизни» [26]. Ради этой цели, часто иллюзорной, как отмечает Гумилев, пассионарий готов жертвовать всем, в том числе и своей жизнью.
Механизм проявления пассионарности не вполне ясен и самому автору теории: «Мы не беремся судить: лежит ли в основе пассионарности единый ген или комбинация генов, рецессивный этот признак или доминантный, связан ли он с нервной или гормональной деятельностью организма?» [26]. Но несомненным для Льва Николаевича является то, что природа ее лежит в плоскости биологического, передается этот признак по наследству и тесно связан с областью подсознания.
Однако на любых этапах развития этноса пассионарии не составляют большинство популяции. Основная часть населения состоит из гармоничных особей. Для подавляющего большинства нормальных людей «безудержное сгорание другого человека, немыслимое без пассионарного принесения себя в жертву… <…> …чуждо и антипатично» [26]. Это люди «интеллектуально полноценные, работоспособные, уживчивые, но не сверхактивные» [26]. Они являются очень важным этническим элементом, т. к. «умеряют вспышки пассионарности, умножают материальные ценности по уже созданным образцам» и «вполне могут обходиться без пассионариев до тех пор, пока не появится внешний враг» [26]. Короче говоря, в массе своей это законопослушный обыватель, который соблюдает традиции, для которого стабильность важнее перемен, на постоянных, каждодневных усилиях которого держится вся хозяйственная жизнь этнической системы. Но когда появляется внешний враг, эти люди, даже имея значительный численный перевес, не в состоянии без пассионариев организовать сколь-нибудь серьезное сопротивление.
По этому поводу могут возникнуть возражения: как же тогда быть с известными примерами массового героизма? Для того чтобы понять, что здесь нет никакого противоречия, необходимо обратиться к свойствам пассионарности. Гумилев совершенно определенно пишет, что «пассионарность заразительна. Это значит, что люди гармоничные…<…>… оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны» [26]. Лев Николаевич приводит много примеров этого свойства пассионарности, которое он называет пассионарной индукцией.
Пассионарная индукция очень похожа на явление «заражения» в толпе. Вот что пишет о толпе Густав Ле Бон: «…каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности» [85].
Особенности поведения людей в толпе достаточно хорошо изучены, но не объяснены, так как сложно считать объяснением предположения о существовании коллективной души или заражении и внушении, имеющих гипнотическую природу. В этом контексте гипотеза Гумилева о существовании коллективных полей представляется не менее научной, чем все изыскания в области психологии масс: «Учтем, что равно „наэлектризовать“ несколько сот человек можно только путем индукции, т. е. воздействия на каждую особь заряда пассионарности другой особи. Логичным продолжением аналогии будет гипотеза пассионарного поля (подобие электромагнитного поля), обладающего совсем иными свойствами воздействия на психологию популяций сравнительно с индивидуальными психологиями тех же людей, взятых по отдельности» [26].
Второе свойство пассионарности заключается в том, что сама по себе пассионарность, вопреки широко распространенному мнению, этически нейтральна. Она не является героическим качеством и не сопровождается выдающимися способностями. «Пассионарность отдельного человека сопрягается с любыми способностями: высокими, малыми, средними; она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой конституции данного человека; она не имеет отношения к этическим нормам, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие; и она не делает человека „героем“, ведущим „толпу“, ибо большинство пассионариев находятся именно в составе „толпы“, определяя ее потентность и степень активности в тот или иной момент» [26].
И, наконец, третье существенное обстоятельство связано со степенью пассионарного накала. Отмечая огромную роль в этногенезе деятелей науки и искусства, Гумилев относит многих из них к пассионариям, но меньшей степени напряжения. Любая психологическая типология выделяет некоторое количество достаточно ярких типов, а между ними всегда расположены смешанные и промежуточные. Поэтому сложно не согласиться с тем, что «в случае надобности деление может быть более дробным», а «кроме описанных нами ярких примеров, должны существовать варианты, слабее выраженные, при которых пассионарий не идет на костер или баррикаду… но жертвует многим ради своей цели» [26].
В качестве основы для такого деления Лев Николаевич предлагает систему координат, где на одной оси будут отражаться вариации подсознательной сферы, от пассионарности до инстинкта самосохранения, а на другой – сознательной. Для второй оси он вводит понятие аттрактивности (attractio – влечение), которая противостоит «разумному эгоизму» и является влечением к истине, красоте и справедливости.
Гумилев пишет по поводу аттрактивности: «Природа аттрактивности неясна, как, впрочем, и природа сознания, но соответствие ее с инстинктивными импульсами самосохранения и с пассионарностью такое же, как в лодке соотношение двигателя (весла или мотора) и руля» [26]. Таким образом, в предложенной системе координат ось «аттрактивность – эгоизм» отражает те человеческие качества, которые в психологии подпадают под понятие направленности личности.
У Гумилева в классификации особей по пассионарно-аттрактивному принципу нашлось место для обывателей (1), бродяг-солдат (2), преступников (3), честолюбцев (4), деловых людей (5), авантюристов (6), ученых (7), творческих людей (8), пророков (9), нестяжателей (10), созерцателей (11) и искусителей (12) (рис. 1). Понятно, что этот перечень может быть расширен.

Рис. 1. Классификация особей по пассионарно-аттрактивному принципу [26]
Мы рассмотрели людей гармоничных и пассионариев. Осталось сказать о третьем типе – субпассионариях. Это тем более необходимо, что субпассионариев с пассионариями путают значительно чаще, чем пассионариев с гармоничными людьми. Согласно теории Гумилева, «в составе этносов почти всегда присутствует категория людей с „отрицательной“ пассионарностью. Иначе говоря, их поступками управляют импульсы, вектор которых противоположен пассионарному напряжению» [26].
На схеме «Изменение пассионарного напряжения этнической системы» (рис. 2) уровень субпассионарности расположен ниже оси абсцисс, т. е. уровня тихого обывателя, а пассионарность – выше. Напрашивается вывод, что и активность субпассионариев отрицательна, т. е. эти люди вообще не способны ни на какие телодвижения. Это не так. На схеме представлены два уровня субпассионарности: неспособность регулировать вожделения и неспособность удовлетворять вожделения. Первый будет связан с импульсивностью, когда во главу угла ставится желание, в том числе сиюминутное и низменное: «Хочу!», а во втором – иждивенчество: «Хочу! Дайте!»

Рис. 2. Изменение пассионарного напряжения этнической системы [26]
Конечно, среди субпассионариев есть и патологически ленивые люди, вроде героя одноименного романа И. А. Гончарова Ильи Ильича Обломова. Но есть и вполне живые и подвижные. Зачастую один и тот же субпассионарий может переходить с одного уровня на другой в зависимости от ситуации. Классическим примером субпассионария вообще и такого перехода в частности может служить Шариков из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Первый уровень он демонстрирует, когда гонится за кошкой и устраивает потоп в ванной или пристает к Зиночке. На этом же уровне он функционирует в качестве начальника подотдела очистки: «Мы котов душили-душили, душили-душили…» А в ситуации с квартирой профессора Преображенского («Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть») Шариков – наглый иждивенец.
Гумилев делит субпассионариев на «бродяг», «бродяг-солдат» и «вырожденцев»10. В качестве примера «вырожденцев» он приводит люмпенизированную прослойку римских граждан времен позднего Рима, а первые две группы характеризует следующим образом: «Группа субпассионариев в истории наиболее красочно представлена „бродягами“ и профессиональными солдатами-наемниками (ландскнехтами). Они не изменяют мир и не сохраняют его, а существуют за его счет. В силу своей подвижности они часто играют важную роль в судьбах этносов, совершая вместе с пассионариями завоевания и перевороты. Но если пассионарии могут проявить себя без субпассионариев, то те без пассионариев – ничто. Они способны на нищенство или на разбой, жертвой которого становятся носители нулевой пассионарности, т. е. основная масса населения» [26].
Можно подвести итог. Активность, в том числе физическая, не может служить индикатором принадлежности человека к пассионариям, субпассионариям или людям гармоничным. Она свойственна всем группам населения, но имеет разную направленность: люди гармоничные «работают, чтобы жить – никаких иных потребностей у них не возникает»; «человек-пассионарный живет, чтобы работать ради своей идеальной цели»; «индивид, называемый субпассионарием, живет, чтобы не работать, и ориентируется на потребление за счет других людей» [24].
Не стоит думать, что все субпассионарии обязательно тунеядцы. Просто при поиске работы субпассионарий будет ориентироваться на те сферы, где можно заработать при минимальных затратах. «Минимальность затрат» определяется самим субпассионарием в зависимости от личных склонностей, от того, что «легко и приятно» лично ему. Многие субпассионарии в надежде на удачу вполне способны идти даже на смертельный риск (вспомним солдат-наемников) что в глазах посторонних людей и в конкретной ситуации вполне может выглядеть как отвага.
Вообще апеллировать к личностным характеристикам вроде смелости или трусости не имеет смысла при описании градаций пассионарности. «Когда организм готов умереть ради цели (у человека это, как правило, более или менее разумно обоснованная цель), это дает ему преимущество перед более сильным противником, который хочет не только победить, но и выжить. Не следует путать пассионарность с храбростью. Есть люди храбрые, но не пассионарные. Просто пассионарная особь, пусть даже и трусливая, получив отпор, будет повторять попытки достичь своей цели, а храбрый непассионарный человек, которого можно именовать „гармоничником“, может смириться с положением, хотя и не выказать особого страха» [74].
Другим показателем является отношение ко времени. Пассионарии, жертвуя комфортом, спокойствием, самой жизнью, обращены в будущее. Гармоничные люди, сохраняя традиции и воспроизводя выработанные прошлыми поколениями способы и формы хозяйствования и общения, – в прошлое. А субпассионарии живут исключительно сегодняшним днем. Они не способны строить прогнозы на сколько-нибудь отдаленное будущее, но это не связано с их интеллектуальными способностями.
Цель данного краткого описания трех типов людей заключается в самом общем рассмотрении их принципиальных отличий. При переходе к конкретным примерам время от времени неизбежно будут возникать споры, основанные на проекциях собственной личности со стороны оценивающих и субъективности восприятия того или иного персонажа вследствие существующих установок и сложившихся стереотипов. Поэтому феномен пассионарности требует дальнейшего изучения. Необходима разработка критериев, на основе которых возможна объективная оценка уровня пассионарности конкретных людей. Для перехода же к описанию развития этнических систем эти частности не имеют принципиального значения, так как речь в теории этногенеза, по выражению ее автора, идет о статистических закономерностях.
Глава 2. Особенности межэтнического взаимодействия
Вы говорите: «всю мою сознательную жизнь». Но это неправда. Говорите лучше – всю мою бессознательную жизнь.
Из телесериала «Метод»
Если без осмысления термина «пассионарность» невозможно по-настоящему разобраться с внутренней динамикой развития этноса, то представления о комплиментарности, химере и антисистеме необходимы для понимания положений пассионарной теории в области межэтнических отношений и тех искажений, которые они могут вносить в процесс развития этнических систем.
Для того чтобы начать разговор о природе комплиментарности, которая является чувством симпатии или антипатии, возникающим на подсознательном уровне, необходимо вспомнить об этнических полях, существование которых предполагал Гумилев. С научным обоснованием этой гипотезы можно познакомиться в работах советского ученого-биолога Бориса Сергеевича Кузина11.
Согласно выводам Б. С. Кузина, дифференциация частей, координация их действий и вообще развитие любого органического целого всех таксономических групп, включая отдельных индивидов, коллективы особей и т. п., регулируются морфогенными, филогенетическими и прочими полями, которым присуща динамичность. Б. С. Кузин отмечает, что «принципу поля подчинены также взаимоотношения индивидов внутри колоний и видов, жизнь вида в целом и даже процесс филогенетического развития всего органического мира» [54].
Гумилев формулирует эту мысль следующим образом: «Из факта целостности групп и их единства, выражающегося в единстве их строения и поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координирующие этот процесс. Поля эти можно назвать филогенетическими» [26].
Логично предположить, что взаимодействие между таксономическими единицами «органического мира» также определяется взаимодействием их полей (в нашем случае – полей этнических). Именно этот вывод делает и Гумилев. Как известно, поле имеет волновую природу, а волны – общие волновые характеристики (длину, частоту, амплитуду, скорость). Параметры же этих характеристик могут быть различными. По-видимому, в этом и кроется причина положительной либо отрицательной комплиментарности при этнических контактах, определяющей деление на «своих» и «чужих», а также ее кажущаяся иррациональность.
Из теории Гумилева следует, что последствия этнических контактов зависят от уровня, на котором они осуществляются. «Сочетание двух и более консорций и конвиксий нестойко. Оно ведет к распаду или к образованию стойкой формы субэтноса. На субэтническом уровне смешение трактуется как „неравный брак“ с особой „не нашего круга“, причем ступень социальной лестницы часто не имеет значения» [26].
На этническом уровне могут возникать симбиозы, в которых каждый этнос занимает собственную экологическую нишу, находясь во взаимовыгодных отношениях с соседями12, и ксении, являющиеся нейтральной формой существования этносов. Ксении гораздо менее позитивны, чем симбиозы, так как в этом случае этносы сосуществуют на одной территории, в одном социальном организме, «но не сливаются и не делят функций» [26], что обыкновенно сопровождается чувством взаимного недовольства13.
Наиболее неблагоприятны контакты на уровне двух и более суперэтносов, часто сопровождающиеся этнической аннигиляцией, демографическим спадом или физическим истреблением слабой стороны [26]. Именно к такому роду контактов относятся этнические химеры, являющиеся питательной почвой для антисистем.
Напрашивается вопрос: почему контакты на различных уровнях этнических групп имеют столь несходные последствия? Для ответа на него уместно обратиться к понятию «картина мира». Этот термин связан с существованием адаптационных механизмов, позволяющих отдельным людям и человеческим обществам быть включенными в окружающую среду наиболее психологически приемлемым образом. Подходы к его пониманию могут несколько различаться, но эта проблема не является для нашей темы центральной, поэтому мы можем опустить их анализ, приняв к рассмотрению концепцию этнической картины мира в изложении доктора культурологии Светланы Владимировны Лурье.
Из ее работ следует, что в основе этноса лежит этническая картина мира, то есть «особым образом структурированное представление о мироздании, характерное для членов того или иного этноса». Она «осознается членами этноса лишь частично и фрагментарно» [63] и служит базой для формирующейся совокупности этнических адаптационно-деятельностных моделей, а ее структуру составляют этнические константы и этнические доминанты.
Этнические константы представляют собой своего рода архетипы14 – устойчивые бессознательные комплексы, которые изменяться не могут, так как их изменение влечет за собой возникновение нового этноса. «Они сами по себе не имеют содержательного наполнения, а включают в себя лишь формальные характеристики, т. е. представляют собой определенную и постоянную на протяжении всей жизни этноса форму упорядочивания опыта, которая в соответствии со сменой культурно-ценностных доминант народа в течение его истории получает различное наполнение» [63]. Этнические же доминанты – в целом стабильные, но способные к трансформации ценностные установки. Объясняя понятие архетипа, К. Г. Юнг приводил в качестве аналогии систему каналов, где сам архетип представлен руслом, а его содержание – водой, которая по этому руслу протекает.
Этнос состоит из различных внутриэтнических групп, картины мира которых созвучны в части этнических констант, но могут различаться в части этнических доминант. При этом выделяется центральная культурная тема, «которая не может быть приравнена к ценностной ориентации, поскольку, во-первых, для каждого нового поколения членов этноса она как бы предзадана, а во-вторых, в ходе истории народа может представать в различных, вплоть до взаимопротивоположных интерпретациях. Более правильно было бы рассматривать „культурную тему“ как тип устойчивого трансфера, который отражает парадигму „условия деятельности“ в сознании членов этноса. Культурная тема, будучи результатом устойчивого (что вовсе не означает – неразрушимого) трансфера, включается в картины мира различных внутриэтнических групп, а, следовательно, в различные ценностные системы» [63].
Внутриэтническая неоднородность приводит к тому, что членам этноса присущи как общеэтнические поведенческие и коммуникативные модели, так и групповые. В результате возникает мозаичная структура этноса, способствующая поддержанию его стабильности и детерминирующая процесс самоструктурирования. Механизмом осуществления этого процесса является функциональный внутриэтнический конфликт, который «всегда реализуется на базе определенной «культурной темы» [63].
Системообразующее значение функционального внутриэтнического конфликта отмечалось и Гумилевым, причем не только на этническом, но и на суперэтническом уровне: «Суперэтносы имеют одну интересную особенность – внутри системы происходит поляризация. Как монолиты они ведут себя только в фазе пассионарного подъема, а затем, подчиняясь диалектическому закону единства противоположностей, они находят направления для деятельности, осуществляющие устойчивое равновесие в постоянной борьбе между собой. Однако по отношению к другим суперэтносам они выступают как целостность» [21].
В теории Л. Н. Гумилева нет точного аналога этнической картины мира, но при всех различиях в терминологии и расставленных акцентах наблюдается содержательное сходство ряда положений его теории с ее характеристикой. При этом объяснительный потенциал пассионарной теории выше, так как концепция этнической картины мира, принятая в современной науке, имеет преимущественно описательный характер. Конечно, объяснения наблюдаемым феноменам она дает, но природу соответствующих им явлений не раскрывает.
Возьмем для примера информационную теорию этноса Н. Н. Чебоксарова и С. А. Арутюнова, также опирающуюся на понятие картины мира. Согласно этой теории, «в основе возникновения и самоподдержания этносов лежат сгустки коммуникационных, информационных связей» [4]. Информационными связями определяется существование и функционирование и других социальных групп, с той лишь разницей, что объединение людей в эти группы происходит на основе «тематически выборочных инфосвязей» [4]. Для этноса же характерен большой массив «тематически неспециализированной информации» [4], охватывающей все стороны жизнедеятельности человека.
Таким образом, этничность выступает в роли информационного фильтра и удовлетворяет фундаментальную потребность человека в психологической стабильности. Любая социальная группа, выйдя на некоторый критический уровень тематически неспециализированной информации, дает жизнь новому этносу. Так, по мнению авторов теории, часто в этнос трансформируются касты. Могут стать этносом религиозная община, локально-профессиональная общность и т. д.
Доведя эту мысль до логического завершения, можно утверждать, что команда спортсменов, отойдя от решения чисто профессиональных и узко-бытовых проблем и озаботившись вопросами предназначения человека, обустройства мира, управления государством и т. п., может достичь этого самого критического уровня тематически неспециализированной информации, дав начало новому этносу. При этом авторы информационной теории не дают никакого пояснения относительно причин такой трансформации. Возможна лишь констатация данного факта.
Согласно информационной теории, этнос аналогичен виду у животных и состоит из более мелких составляющих: семей, семейных групп, происходящих от общего предка, территориальных общностей и т. д. По мнению С. А. Арутюнова, в этом «и состоит причина нередкой биологизации этноса, как у Широкогорова и Гумилева» [4]. Сам С. А. Арутюнов видит принципиальное отличие в том, что границы видов обеспечивают их раздельное существование за счет своей непроницаемости, а этнические границы в той или иной степени диффузны, делая возможным этническое взаимодействие.
Таким образом, Гумилев рассматривает этнос как биосоциальное явление (с биологической точки зрения скорее соотнося его с популяцией, нежели с видом), а Арутюнов – как исключительно социальное, отмечая при этом, что «этнос изоморфен виду у животных» [4], что свидетельствует о внутренних противоречиях информационной теории.
Вообще подчеркиваемый критиками «биологизм» теории Л. Н. Гумилева, ставящий его в один ряд с такими представителями расово-антропологической школы, как Ж. Гобино и Ж. Ляпуж, сильно преувеличен. Сам Л. Н. Гумилев неоднократно подчеркивал, что этнос имеет комплексный характер и не сводим ни к социологическим, ни к биологическим, ни к географическим явлениям в отдельности. Соответственно, и решить проблему этничности с позиции рассмотрения ее как исключительно социального феномена не представляется возможным.
Если теорию этнического поля экстраполировать на теорию этнической картины мира, то можно предположить, что постоянные волновые характеристики (частота колебаний, например) определяют этнические константы, а переменные (длина, амплитуда) – этнические доминанты. Этнические константы сохраняются на протяжении всей жизни этноса, доминанты же претерпевают изменения (в значительной мере под влиянием затухания первоначальных колебаний вследствие энтропии), имеющие при всем их внешнем разнообразии некоторые общие для всех этнических систем закономерности, которые рассматриваются Гумилевым на примере смены фаз этногенеза.
Вообще комплекс полей различных таксономических групп одного большого целого должен напоминать своего рода матрешку, где каждая из вложенных кукол имеет свои особенности, но соотношение формы и размеров позволяет им беспрепятственно «запрыгнуть» друг в друга, составив единство. Поэтому понятно, почему катастрофические проблемы начинаются на уровне суперэтнических контактов: параметры «материнских наборов» настолько различны, что совмещения достичь невозможно без деформации отдельных частей или даже всего целого.
Для иллюстрации отличий межэтнических взаимодействий в зоне контакта суперэтносов от всех прочих, протекающих на уровнях более низких таксономических единиц, подходит сравнение линейного и нелинейного взаимодействия волн. Линейные волны при взаимодействии не искажают и не препятствуют друг другу. Одна группа волн без изменений проходит через другую. В волновой физике это называется принципом суперпозиции. Линейная трансформация волн происходит только под влиянием внешних факторов и данный принцип не нарушает. Изменение же свойств среды при нелинейном взаимодействии обуславливается самими взаимодействующими волнами.
В силу разнообразных причин возможны ситуации, когда какой-либо этнос отрывается от родного суперэтноса и входит в состав другого, чуждого ему, или длительное и тесное взаимодействие осуществляется на границе суперэтнических ареалов. Этносу вхождение в чужой суперэтнос в любом случае обходится дорого, так как «всегда предполагает отказ от своей этнической доминанты и замену ее на господствующую систему ценностей нового суперэтноса» [24]. Для суперэтнической системы такая ситуация может быть достаточно безболезненна, если новый член находит в системе свою экологическую нишу. При отсутствии такой ниши «прорастание» представителей одного суперэтноса в другой часто приводит к возникновению химеры.
Химера – «сосуществование двух и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической нише» [26]. В таком случае источником существования для этноса, не нашедшего естественного места в системе, становится этнопаразитизм. Частным случаем этнопаразитизма может быть работорговля, в том числе и экономическое рабство, ростовщичество.
Но к наиболее катастрофическим последствиям приводит формирование антисистем, которые могут возникать «в ареалах столкновения этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития» [21].
Отдельные люди с негативным мироощущением встречаются в любой этнической системе, но для самой системы в норме характерно направление энергии на созидание. Иногда это созидание предполагает разрушение старых конструкций (функциональный конфликт, разрешающийся гражданской войной), но конечной целью является усложнение или восстановление (в зависимости от фазы этногенеза) структуры (мироутверждение во всем его разнообразии). В антисистемах негативное мироощущение (мироотрицание) приводит к направлению энергии на разрушение, выражающееся в уничтожении разнообразия.
Гумилев дает этим диаметрально противоположным картинам мира – мироотрицанию и мироутверждению – следующую характеристику: «В первой позиции – стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие („И снится мне железный вал турбины“), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, „за все печали, радости и бредни“ придется отплатить „непоправимой гибелью последней“» [21].
Существование антисистемы предполагает наличие идеологической платформы. И такая платформа всегда создается. Это могут быть как учения, основанные на формальной вере в Бога, но несправедливости устройства тварного мира, так и на отрицании божественного. Вот как это формулирует один из учеников Льва Николаевича Владимир Аскольдович Мичурин: «Все антисистемные идеологии и учения объединяются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных целей. Вывод из этого двояк: либо подобные учения призывают в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. И то, и другое на деле дает один результат – небытие. Для антисистемы характерны известная скрытность действий и такой прием борьбы, как ложь» [75].
В качестве примеров идеологических обоснований антисистем Гумилев в своих работах рассматривает гностицизм, манихейство, павликианство, учения катаров и исмаилитов, богумильство, отдельные направления буддизма и некоторые другие. Характерной чертой, объединяющей эти учения, является «жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия (тантризм), либо как мираж в зеркальном отражении (исмаилизм), либо как творение сатаны (манихейство), то некого жалеть – ведь объекта жалости нет, и незачем жалеть – Бога не признают, значит, не перед кем держать ответа – и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую» [26].