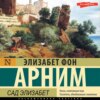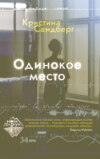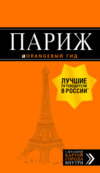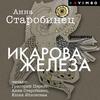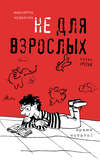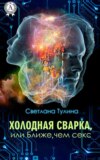Читать книгу: «Город уходит в тень», страница 3
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Как там у китайцев? Не дай бог жить в эпоху перемен?
И вспомнила я, что Россия как раз такая страна, где перемены не прекращаются почти никогда. Прабабушки-прадедушки, бабушки-дедушки, мамы-папы… Первая мировая, Революция, Гражданская, Вторая мировая…
Всего-то нам, счастливчикам, и выпало время, презрительно называемое застоем. И правда – застой. По первым апреля – снижение цен. Чтобы хоть на копейку электричество повысить или там квартплату – ни-ни… Какое там годами! Десятилетиями. Сегодня работа, и завтра работа, а биржи труда – так это там, за железным занавесом. Где негров угнетают. Летом санаторий, лагерь или дикарем на моря, зимой турбазы, зарплата в срок, пенсия в срок, хоть бы раз в жизни задержали. Короче, выпало нам жить в эпоху застоя.
Видать, кто-то во вселенной нам позавидовал. Или планеты не так встали, или боги, играя в «Монополию», сильно между собой перессорились.
Перемены, перемены… Крупные, мелкие…
Вроде что-то устоялось, а посмотришь – беда. С детьми беда… Со взрослыми беда, с людьми беда…
Сижу на скамейке. На другой – двое парнишек. Школьники. Радостно, во весь голос обсуждают какое-то видео, на котором какая-то Лизка с кем-то… Ну, вы поняли. Сейчас выкладывать или нет? Пусть теперь покрутится, шалава…
При этом я выступаю кем-то вроде каменного истукана. Мат стоит – уши вянут. Ушла.
Месяцем прежде на этой же скамейке восседала с ногами девица, заставшая своего парня с другой. Вопли, слезы, истерика, мат-перемат, при этом уже четыре женщины выступают в ролях каменных истуканов, а концерт слушает вся улица.
Нет, понятно, что такие понятия, как «честь», «достоинство», «порядочность», в школе не преподают. Родители? Родителям некогда? Интересно, они хотя бы слышат лексикон своих отпрысков? Хотя бы иногда говорят с ними о чем-то, не относящемся к урокам?
Так это школьники. Народ незрелый.
А позавчера, кажется, я забрела на «Первый канал». Передача «На самом деле». Я потом в программе посмотрела.
Увидела надпись «Знаменитый актер живет на две семьи» и уже хотела переключить канал, но тут зацепилась ухом. «Подсудимые» – блондинка и брюнетка. Насколько я поняла, брюнетка – законная жена. Какая-то дама с лицом намакияженного бронетранспортера допрашивает блондинку. Я аж рот раскрыла. Тон – Торквемада позавидует. Вопросы – как на пытке в гестапо. Не меньше. И по-моему, в обстановке отчаянно не хватает железной девы, испанского сапожка, дыбы, щипцов, крючьев, кнутов и т. д.
Но меня больше поразила блондинка. Она отвечала. Вот на эти оскорбительные вопросы, заданные более чем хамским тоном, – отвечала. Коротко, неохотно, но отвечала.
Да, им за это платят деньги. Но заговори кто-то со мной подобным тоном, хоть начальство, хоть олигарх, я бы встала и вышла из аудитории. Молча. Не удостаивая ответом. Где оно, достоинство это? Тут что, Акакии Акакиевичи Башмачкины собрались? Взрослые, успешные, красивые, молодые… И такие ничтожества? Башмачкина хотя бы жаль. К этим же – ничего, кроме брезгливости. Понимаю еще, если бы блондинке нечего было есть, нечем кормить детей…
Как там пела Мария Пахоменко?
Мужчины, мужчины, мужчины
К барьеру вели подлецов…
Достоинство больше не подлежит защите. Барьеры исчезли, подлецы расплодились, зато мужчины скромно прячутся на заднем плане.
Перемены, перемены…
А этот, со скромно-торжествующей улыбкой, который успел поизгаляться и над Чеховым, и над Пушкиным, и над Есениным. Неужели настолько сильна зависть бездари к гениям? Видать, настолько.
А я-то, я-то до сих пор считала, что дно – это Церетели. Однако, как верно заметила Люсинэ Аветян, едва посчитаешь, что добрался до днища, снизу тут же раздается вой перфоратора…
Помню, как я под осенним дождем стояла на Крымском мосту, не в силах отвести взгляда от памятника Петру с кружевными панталончиками-облаками. За какие грехи царю не везет? То в виде сифилитика в Петропавловке посадят, то панталончики…
Создал же Фальконе памятник на века, один на всю жизнь… А эти… Да по сравнению с этим деятелем и Церетели можно считать скульптором, и даже Никаса Сафронова – художником.
Только одно издевательство подобного рода меня не то что радует, но не раздражает. Надгробие Хрущева работы Эрнста Неизвестного… воистину, месть – блюдо, которое лучше подавать холодным.
Но все это перемены довольно мелкие, хоть и подлые. А самая страшная – это война в Нагорном Карабахе. Знаете, я раньше искренне считала, что это азербайджанцы устроили резню армян.
А потом мне показали документы, где все было с точностью до наоборот. То есть обе стороны хороши. В подобных войнах нет правых и виноватых. Виноваты все. Правда, тут можно назвать главного виновника. Все тот же Горбачев. Когда началась резня в Сумгаите, он не сделал ничего, чтобы наказать виновных, и все спустил на тормозах. Отсюда и пошло. При СССР, настоящем СССР, никаких распрей не было. В России никаких стычек между армянами и азербайджанцами нет. Могу напомнить обеим сторонам, как азербайджанец Муслим Магомаев пел песни армянина Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского…
Я росла, можно сказать, в окружении армян. Соседние дома – сплошь армянские. Сейчас я в дружбе с половиной рынка, то есть азербайджанцами. Я у них в кредит беру, я, если что, могу аванс дать… И никто никого не режет.
Так что вместо того, чтобы послушно дергаться на ниточках политиков, лидерам и той и другой стороны следует спешно замиряться и не лить попусту кровь сограждан.
Зато теперь у нас перемены. Некий режиссер Херманис ставит легенду о любви прекрасноокой Хамато… простите, Раисы Максимовны и ее мужа, дружно ненавидимого всем бывшим СССР…
Да еще какая-то мразь воду на Камчатке нефтью отравила. Животных погибло… немерено. Дело возбудили. Беда в том, что виновник неизвестен…
А в остальном, прекрасная маркиза, сплошные перемены. Сегодня жертв ковида столько-то, завтра – на две тысячи больше, и так далее, без конца, до конца…
ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
Умные люди говорят, что создать машину времени невозможно. Противоречит законам физики. А может, математики. А может, химии. Точно не знаю. Я вообще ничего в этом не смыслю. Плохо в школе училась.
Но все-таки надеюсь. А вдруг? Вот Лобачевский взял и создал свою геометрию наперекор евклидовой. Теперь поговаривают, что и теория относительности устарела. И теория Дарвина. А когда-то никто не сомневался.
Это я к тому, что моя молодость, не поверите, пришлась на эпоху патефонов. Потом как понеслось…
Проигрыватели, включающиеся через радиоприемник. Проигрыватели автономные. Радиолы. Магнитофоны пленочные. Магнитофоны кассетные. Плееры побольше. Плееры поменьше. Плееры, совсем не видные. Диски… Видеомагнитофоны. Видеоплееры. Компьютеры на целые залы. Компьютеры персональные с громоздкими системными блоками. Блоки величиной с коробку от конфет. Интернет. Интернет в телефонах…
КВН с линзой. «Рекорды». «Рубины». Черно-белые. Цветные. Ламповые. На микросхемах. Плоские. Плазменные панели…
Когда-то мне делали полостную операцию. После которой я ходила согнувшись и держалась за стену. Шрам от бедра до бедра. Через 10 лет мне делали еще одну операцию. Лапароскопия. Пять даже не шрамиков, а полосок. На второй день я встала и пошла. Теперь, говорят, стенты в сердце ставят, и вообще без общего наркоза. Через бедренную артерию…
И так далее, и тому подобное. Все это за прожитые мной 75 лет.
Это я к чему? Это я к тому, что, может быть, очень может быть, надеюсь, что вдруг Уэллс окажется прав и когда-нибудь изобретут и машину времени.
В конце концов, во времена Леонардо никто не верил, что летательные аппараты могут стать реальностью, верно? А во времена Жюля Верна считали, что подводная лодка – это исключительно фантазия автора. И продолжают же изобретать вечные двигатели, значит, надежда не потеряна.
Вряд ли я доживу, но при таком молниеносном развитии науки – а вдруг?
И тогда я приду к изобретателю и слезно взмолюсь: мол, я совсем дряхлая и старая и пусти ты меня, сыночек, без очереди. Пока я еще на ногах держусь.
И отправит он меня туда. Куда я все время рвусь. Нет, не в этот чужой город, где уничтожают все, что когда-то казалось незыблемым. Не в этот чужой город, где стоят чужие дома и правят инопланетяне. Не в этот чужой город, где люди еще остались прежними, родными, добрыми, гостеприимными, но их становится все меньше. Теперь они разбросаны по всему свету. Я одного даже в Танзании нашла. И что ташкентцу делать в Танзании?
Отправит он меня туда, где все еще живы. Родные живы. Мама. Папа. Сестра. Друзья живы. Леня. Саша. Олег. Аня. Адиба. Алик. Дина.
Где я совсем маленькая. Где растет живая изгородь. Где на Алайском кипит бурная деятельность. Где Энгельса – Энгельса. Где Урицкого и Малясова – Урицкого и Малясова. Где в тени родного Сквера стоят скамейки и дети едят мороженое из металлических креманок… Где мавританский магазинчик стоит и ничего ему не делается. Где сворачивают к курантам троллейбусы. Где на улицах цветут розы и канны с почти черными листьями. Где можно шлепать босиком по теплой пыли. Где подпрыгнешь – и вот тебе акация, и ты набираешь в горсть цветов и жуешь. И жалеешь, что маклюру, при всей ее красе, есть нельзя. Где у летнего кинотеатра продают соленые и сладкие косточки. Где осенью жгут костры из листьев и горьковатый дым стелется по улицам. Где цветут на крышах и дувалах красные маки. Где все просто, понятно и светит солнышко. Где нет алчных завоевателей. Где еще журчат арыки. Где на улице пахнет сладкой карамелью.
Туда, где счастье.
Хоть на день. На один день. Я успею обежать весь центр.
И можно спокойно умирать.
ПРОСТИТЬ… ПРОСТИТЬСЯ
Вроде почти одинаковые слова. По крайней мере смысл одинаков. С оттенком обреченности.
Есть у меня теория не теория, но убежденность. Моя собственная. Заключается в том, что в каждом городе, в каждом месте, где ты был и ходил, земля, или асфальт, или брусчатка, или песок – все равно – хранит твои давно стершиеся следы. Что-то вроде нематериального свидетельства присутствия. Ты давно уехал, ты больше никогда там не был, ты умер… следы остались. Для меня почему-то такая мысль служит большим утешением.
Если моя теория верна, в чем я сомневаюсь, но все же… больше всего моих следов отыщется в Ташкенте. Сначала крошечные, потом побольше, потом…
Ночью, когда все нормальные люди спят, я думаю и вспоминаю. И на ум приходят такие странные вещи, такие эпизоды, что только диву даешься, откуда всплывает. Тогда я, кряхтя, встаю и записываю мысль на первом попавшемся клочке бумаги. Иначе к утру точно забуду – склероз.
На этот раз я долго пыталась сообразить, каким образом оказалась на той остановке, одна, летом, часов в восемь вечера. Точно не восьмидесятые. Тогда мы всюду ходили с сыном и мечтали, что когда-нибудь полетим вместе в Мемфис, поклонимся могилке Элвиса Пресли.
Не сбылось. И уже не сбудется. Как ни обидно это сознавать.
Сообразила. Должно быть, из кино возвращалась, раз одна. А муж тогда учился в московской аспирантуре.
Вот и стояла на остановке.
Нужно сказать, что транспорт в Ташкенте тогда был очень разнообразным. Много троллейбусов, но в центре. Ходили прекрасно. Много трамваев – выручалочек. Автобусов меньше. И на многих маршрутах ходили маленькие автобусы – пазики.
Позже напротив Алайского была большая конечная остановка, откуда уже нормальные автобусы разъезжались по разным маршрутам. А тогда по Малясова ходил такой пазик. Двадцатый маршрут. Он шел по Энгельса, потом по Малясова, по направлению к Дархан-арыку. А в обратную сторону шел по Урицкого. При этом водители понимали свою работу очень странно. Если невероятно повезет, двадцатка приходила через полчаса. А могла через час. И через полтора. Короче, дело гиблое. И обиднее всего, что, завернув на Малясова, двадцатый останавливался сначала у общежития фирмы «Юлдуз», а потом у моего дома. И дальше шел ровнехонько до моей работы. Только дорогу перейти. Но ждать утром – тоже безнадежно. Приходилось идти пешком. До конца Урицкого. Конечно, лет мне было не так много, но вот лень… лень одолевала. Утром бы поспать, нет, тащись каждый день полчаса. Из-за двадцатого я вообще чуть не погибла. Стояла у ОДО, а на другой стороне на остановку подъехал двадцатый. Я и ринулась. И налетела на «Волгу». То есть… или… или она на меня. В общем, я лихо оттолкнулась, перепорхнула через дорогу, ворвалась в автобус, и тут какой-то мужчина мне и говорит: мол, повезло вам, девушка, иначе водитель вон той «Волги» вас бы точно убил. Точно. Убил бы. И его бы оправдали. Но, с другой стороны: от ОДО до моего дома никакого транспорта. Даже трамваи ходили от Алайского, и если раньше остановка была на Урицкого, потом ее почему-то убрали. Хорошо, тогда у меня ноги были, сейчас не вынесла бы.
Так это я к чему? А к тому, что брела я в тот вечер, брела, видимо, довольно долго, и так мне это надоело, что застряла я на остановке двадцатого (и не только) у фирмы «Юлдуз». Казалось бы: ну что тут торчать? Прошла 50 метров, свернула за угол, прошла два квартала… НЕТ. Какое-то ишачье упрямство нашло. Не пойду, и все. Буду ждать двадцатый. Тем более, что домой точно не хотелось. Муж далеко, ну сходишь в кино, чаще с работы – прямо в консерваторию или с компанией в кафе. Все равно одна, потому что у подруг своя жизнь, а у потенциальных поклонников – вполне определенные цели, осуществлять которые я вовсе не собиралась. Короче, никому я не нужна.
Стою. У киоска «Союзпечать». Закрытого. Тогда газеты и журналы раскупались мгновенно. Особенным спросом пользовалась программа ТВ – черно-белая, формата многотиражки.
Двадцатого нет.
Темнеет. Не то чтобы страшно идти – нет. Малясова и прилегающие улицы назвать опасными было никак нельзя. И как ни странно, Малясова, Урицкого и Энгельса были не слишком зелеными. На Энгельса деревья были редкими, зелени не было, почти до ОДО. На Урицкого тоже не очень много деревьев. На Малясова деревья начинались за несколько десятков метров до нашего дома. Почему? Насчет Энгельса и Урицкого не знаю, а на Малясова раньше росли тополя. Пирамидальные. Несмотря на то, что это символ Средней Азии и любимый предмет пейзажа для художников, они были очень нестойкими. То ли корни слабые, то ли стволы, только когда в мае начинались бури, они валились, как кегли в боулинге. Вот на Малясова они почти все и полегли. И на Кренкеля начиная от нашего дома тоже раньше росли, в моем детстве. Потом арык почему-то высох, и тополя вместе с ним. Я как-то сама видела: сидела на балконе, выходившем на Кренкеля, и смотрела на грозу. И тут бежит соседка моя, мама Лоры Осадчук, Полина Моисеевна. Торопится до дождя. Шаг – и за ее спиной обрушивается верхушка засохшего тополя. Буквально шаг отделял ее от увечья или чего хуже.
А тут еще на оставшиеся тополя напала какая-то гадость. Летучие тараканы. Мало того, что самого мерзкого вида, так еще и пищали. Сидишь вечером на балконе – плюх. Потом еще – плюх! Подбирай их… Вот они тополя и дожрали. После чего их вроде бы запретили сажать.
Так что на Малясова тополей почти не осталось. Дубы были. На противоположной стороне. В конце второго квартала.
Улица наша была тихая… нет, не так, наша и прилегающие: Ширшова, Кренкеля, Обсерваторская, Финкельштейна. Очень редко, если кто пройдет. Да и машин почти не было. До сих пор так: ни людей, ни машин.
Дождалась я автобуса, упертая ишачиха. Через три минуты уже вылезла у той акации, что на углу росла. Которой уже тоже нет.
А сейчас, сто лет спустя, сижу и думаю: и на кой? Лучше бы лишний раз прошла по знакомой-знакомой улице.
Всего-то – завернуть за угол. Вдоль здания фирмы «Юлдуз». Мимо большого коммунального двора. Там еще Лена жила. Учитель английского. Красивая очень, с рыжеватым от веснушек лицом. Все боялась, что замуж никак не выйдет. Вышла потом…
Мимо общежития фирмы. Мимо большого пустыря, где росли высокие кусты сиреневых гибисков. Поперек пустыря – еще один коммунальный двор, где жила моя одноклассница Наташа. Мимо длинного глиняного дувала до еще одного коммунального, населенного евреями двора, где мама покупала мацу. Мимо дома двух странных особ, мужья которых сидели. А они тоже сидели. Часами. У калитки. И провожали взглядом каждого, кто проходил по улице. Мимо дома, где жил мой друг Валя. Напротив его дома была колонка, не кран, а именно колонка. И росли уцелевшие тополя. Толстые. На одном было вырезано имя Асрор и дата. Асрор Мухтаров. Жил напротив нас. Надпись глубоко ушла в ствол и обросла по краям слоями коры.
Мимо дома, где очень замкнуто жил татарин с русской женой. Перейти узкую улочку Кренкеля.
И я на углу дома.
Нужно же было быть такой ворчливой каргой, чтобы каждый день сетовать на необходимость тащиться от Кренкеля аж до Дархан-арыка. Всего-то до Обсерваторской. Мимо дома, где жила тетя Галя Петросянц, правда, не углового. Мимо Малясова, 24: Вика, Игорь, Люся… Мимо дома Генки, где мы часто сидели на низком крыльце. Мимо незнакомых калиток. На мостик через Ак-Курганский, ныне исчезнувший канал. Мимо длиннющего забора. Мимо крошечного квартала, где на углу жил парень, который при встречах не сводил с меня глаз. И все. Там через улицу и в большой проектный институт Узгипро… что-то. Каждый день туда-обратно…
И до ОДО пешком. И до Сквера пешком. И обратно пешком. Всюду пешком…
Ну почему, почему мне было так лень пройти лишний квартал? Почему я все искала, как бы проехать хоть на чем-то?
Почему я так ленилась лишний раз пройти по любимой улице, любимому городу? Прости ты меня, город, которого нет, но на вытертом до камешков асфальте которого остались мои следы. Прости меня, Сквер, которого больше нет и не будет, но где-то на уничтоженных аллеях которого остались мои следы. Прости ты меня, улица, за то, что бросила тебя на целых 30 лет, а ведь еще в 2000 году муж, приезжавший хоронить мать, за день обошел пешком весь центр и, довольный-счастливый, рассказывал, что ничего, ничегошеньки, слава богу, не изменилось, а я, наивная, тогда еще подумала: «А что должно было измениться?»
«Простить» и «проститься» – однокоренные слова? Проститься навеки с тем, что столько лет было твоим, – это очень больно. Проститься навеки с тем, что ты считал незыблемым, – очень больно. Проститься навеки с тем, что считалось твоей родиной, – очень больно.
Просить о прощении и проститься – мучительно.
Мне часто пытаются объяснить, что все, о чем я пишу, – тоска по ушедшей молодости.
И это тоже. Каждому жаль молодости, хотя я не слишком страдаю от старости (если не считать здоровья, конечно). Правда, не страдаю. Но есть еще и совершенно другое чувство.
Есть в английском языке такое понятие bittersweet. Горько-сладкий. Сладостно-горький.
Именно это ощущение постоянно у меня на душе при мысли о моем Ташкенте. Когда-то моем.
Прости… И прощай?
ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮДИ
Почему я это пишу? Да как всегда, столкнувшись с просто убийственным невежеством, хочется как-то отмыться.
Поместила я один очерк в группу «Мы родом из Ташкента». Очень много комментов, положительных и не очень.
Некая дама пишет буквально следующее: «Сколько Вам лет? Какие такие чачваны? Арабские женщины носят абайю, причем их сейчас шьют мировые бренды. Что Вы глупость распространяете, стариной решили тряхнуть? Еще скажите, что сахар был слаще!»
Правда, ей все тут же стали объяснять, что чачваны женщины носили до шестидесятых и сахар таки был слаще, поскольку делался из сахарной свеклы, а не тростника, но сами понимаете, ключевое слово тут «бренды». Я и ответила, что глупость и невежество лучше всего скрывать под чачваном и, может, ей лучше его надеть…
Далее очень многие прицепились к выражению «красный террор», употребленному мной в ироническом смысле. Они приняли его всерьез и стали меня упрекать. Один господин даже написал, не могу ли я привести примеры того, как моих родных репрессировали. Я привела примеры: в частности, разговор шел о Валентине Аксенове, корректоре газеты «Правда Востока», осужденном вместе с выпускающим редактором на 10 лет за пропуск буквы «л» в слове «главнокомандующий». В письме Йосипа Броз Тито, тогдашнего главы теперь несуществующей страны Югославии (это я для нынешних «знатоков»), Сталину.
Мне было отвечено, что эти байки он уже слышал… Байки… Оказывается, ничего подобного не было и это все выдумки.
Не так давно в «Фейсбуке» и на сайте «Письма о Ташкенте» было опубликовано письмо Рэмы Волковой, жены ташкентского писателя Константина Волкова, тогда работавшего в газете «Правда Востока». Речь шла о статье, в которой утверждалось, что за пропуск этой буквы вся редакция была расстреляна. Не более и не менее.
Она, естественно, возмутилась и написала правду. Никого не расстреливали. Но посадили старшего ревизионного корректора (начальника смены) Валентина Аксенова и выпускающего редактора. Она выложила и скан газеты с подчеркнутым злосчастным словом «г (л) авнокомандующий».
Я, помню, написала тогда, что моя «расстрелянная» мама благополучно дожила до 71 года.
Очень многие, как выяснилось, считают, что это байки. Поэтому я хочу объяснить, как выпускали газету в сороковых-пятидесятых. Всего, понятно, я знать не могу. Я тогда была маленькой и не очень интересовалась процессом. Но кое-что помню. Если скажу что не так, поправляйте, я только поблагодарю.
Начнем с наборщиков. Когда-то, очень давно, тексты набирались вручную, по одной букве. Буквы приставлялись друг к другу, получалось слово. Потом предложение. Потом абзац. Потом с текста делали оттиск. Но в конце XIX века был изобретен линотип, на клавиатуре которого сразу набирались буквы, и выходили целые строки. Там сложный процесс, но факт тот, что эти строки отливались на свинцовых пластинах. Крайне вредная работа. Наборщикам полагались молоко и отдых в профилактории. Раньше профессиональной болезнью наборщиков был туберкулез.
У меня дома тоже были такие пластины. Но кто тогда обращал внимание на свинец и разбитые ртутные термометры? С ртутью играли все. И я в том числе. И никто не поднимал по этому поводу шума.
Так вот, с этих отлитых строк печатались гранки – длинные узкие бумажные листы с текстом посредине и широкими полями, на которые выносилась правка. Эти гранки и вычитывали корректоры. Естественно, при наборе допускались различного рода ошибки. Вот корректоры их и ловили. При этом каждому корректору полагался подчитчик – человек, читающий гранки вслух. Корректору так было легче воспринимать текст. Подчитчик – тот же корректор, только они менялись местами.
Но это исключительно для местных новостей. На первой странице газеты печатались новости всесоюзные. Для того чтобы их получить, в Москве делались печатные матрицы – большие листы размера газетного из толстого глянцевого картона (помнится, розового), в который были вдавлены тексты. По-моему, задом наперед.
Матрицы присылались самолетом.
Даже сейчас, в наш просвещенный век, самолеты нередко задерживаются. В том числе из-за погоды. Что уж говорить про тот воздушный транспорт? Сейчас путь из Москвы до Ташкента занимает 3 часа 40 минут. Тогда, может, и больше. Скорость, возможно, была не такой, как в наши дни.
Неудивительно, что мама возвращалась домой не раньше двух, а то и трех ночи – как повезет. А уж если предпраздничный выпуск – в семь утра. Ждали призывов ЦК КПСС.
В ожидании прибытия матрицы вычитывали гранки местных новостей.
Теперь насчет баек о пропусках букв в словах «Сталинград» и «главнокомандующий».
Корректоры – всего лишь люди. Всего. Они уже просидели день на работе. Ночью спать хочется, мозги подернуты туманом, а главное, после вычитки местных новостей глаз замыливается. Потому что они всего лишь люди.
Так случилось с Аксеновым. Пропустил он букву, потому что глаз проскользнул. Это я прекрасно себе представляю, потому что когда печатаю, ошибки подчеркиваются красным. Вот я несколько секунд и смотрю на слово, не сразу понимая, в чем ошиблась. Так я выспавшаяся. А он – нет.
Почему люди считают это байками? Да потому, что такое случалось не в одном Ташкенте и могло произойти в любом крупном городе СССР. И происходило. И не раз. И каждый раз люди шли в тюрьму. За, в общем, вовсе чепуховый проступок. Такие были времена, и я не стану врать, что корректоров за это по головке гладили.
У меня есть личное дело мамы. Она тоже была ревизионным корректором и работала попеременно с Аксеновым, который вернулся, правда, больной туберкулезом и работал на прежнем месте.
В этом личном деле есть очень любопытные документы. В частности, докладная записка мамы о том, что по вине корректора Скуяновой в речи премьер-министра Египта допущена ошибка. Вместо «Наххас-паша» напечатано «Махас-Паша». Далее идет подробное объяснение, что корректор Подрядова, ведущая ревизионную сверку, не виновата. Докладная написана в ответ на требование главного редактора объяснить причину ошибки.
Далее имеется приказ, по которому с Перцевой И. Я. удерживается стоимость работы и бумаги, 8 р. 32 коп., за пропущенную ошибку в статье «Образцово провести сев».
Далее идет донос на маму того же Аксенова.
Слава небесам, ничего более серьезного.
Вот такая была дисциплина. На грани ареста.
А они – байки…
Побывали бы в шкуре героя баек…
Газета – объект повышенной бдительности. И отношение к сотрудникам соответствующее. По крайней мере было. Все сотрудники редакции ходили по краю. Не арестовали? Повезло, значит. И выговоры, и громы небесные – почти обычное дело. Я еще помню мамины рассказы. Это вам не нынешний разгул вседозволенности. Хорошо или плохо?
Не знаю. Не стоили те ошибки такого наказания. Но и грязи не было. Совсем.
И гнусной псевдоанглийской тарабарщины тоже.