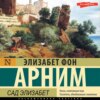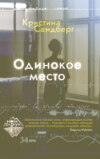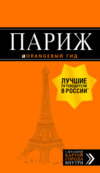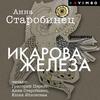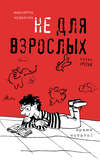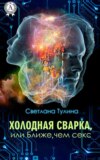Читать книгу: «Город уходит в тень», страница 4
УБИТЫЙ ГОРОД
Наш город молча умирает…
Он превращается в песок.
И только тихий свет окраин
Еще мерцает между строк.
Его спокойно вырубают
Под самый корень, каждый час.
Наш город молча исчезает,
Быстрее нас…
Наш город с каждым днем все больше
Похож на призрачный мираж.
Наш город смотрит в небо с болью.
Наш город…
Нет, уже не наш.
Бах Ахмедов2
Мой бедный любимый город. Бедный родной город. Что с тобой сделали? Что с тобой делают? И что еще с тобой сделают?
Казалось, вечный.
С собственным сердцем – Сквером.
С собственным Бродвеем, где, как и подобает Бродвею, был театр, был дворец, куда высыпала по вечерам молодежь. С Главным фонтаном, куда нас водили мамы. С парками. Сколько же было парков… Два с озерами, когда-то выкопанными на субботниках той же молодежью. Какие-то уничтожены, какие-то реконструированы до неузнаваемости. В одном изуродовали великолепную лестницу. Озеро Победы осушили. Теперь взялись за Комсомольское и тут же расправились со знаменитой детской железной дорогой.
А зелени! Гордые чинары. Дубы. Каштаны. Серебристые тополя. Ясени.
Не поверите, но чистая правда: когда-то прямо посреди мостовых тянулись клумбы. С каннами. Большие цветы, зеленые листья. Маленькие цветы, почти черные листья. С розами. Весь город был в розах и каннах. Клумбы вместо разделительных полос. Понимаю, представить трудно. Но правда. С ранней весны и до поздней осени город расцветал.
Город-сад. Город-рай.
Что с тобой сотворили?
Город, как всякий живой организм, оказался беззащитным перед убийцами.
Его убивали по частям, но планомерно. Сначала сердце. Сквер. Потом здания. Исторические. Дышавшие стариной. Великолепной архитектуры.
Потом принялись за деревья. Это не в лесу и не браконьеры. Уничтожали легкие большого города. И продолжают уничтожать. Все во имя Золотого Тельца.
Но и это не самое страшное. Как ни страшно все происходящее.
В моем городе идет война. Самая настоящая война в мирное время. Руководство города воюет с населением. Бой идет на несколько фронтов. Снос. Теперь каждый, у кого много денег, может снести любой дом, любое памятное место. На днях снесли целую рощу. Рашидова. Это он сажал деревья. Просто кто-то приехал и срубил 80 деревьев. Сносят дома. Не только в Ташкенте. Бесконечные суды, бесконечные требования… Теперь в каждом дворе каждого дома могут построить еще дом. Потому что есть деньги.
Был в Ташкенте институт садоводства и виноградарства. Основанный большим ученым Рихардом Шредером. Носивший его имя.
Потом это имя отняли. Потом институту дали имя Мирзаева. Вроде как ученика. Теперь нынешний директор благополучно вырубил весь сад института. Абсолютно безнаказанно. Древесина идет на мебель и паркет.
Война идет с переменным успехом. Дом 45 по улице Амира Темура, бывшей Пролетарской, стал символом, вроде Брестской крепости. Это просто уму непостижимо: нашелся человек, сплотивший жильцов дома, выигравший все суды, не позволивший снести исторический памятник…
Я еще не видела такого, чтобы в современном государстве у человека отобрали его же картину, а на все попытки вернуть грозятся в тюрьму засадить! Причем грозится (публично!) та, кто призван закон защищать. Прокурор.
Хоким (мэр) города публично же угрожает журналистам. Еще какой-то хоким ставит людей в канаву с водой за некий, по его мнению, проступок.
Заметьте, и характер преступлений изменился. Преступления были всегда. Были, есть и будут. Но обижать и унижать стариков? В мусульманской стране? Издеваться над детьми? В мусульманской стране? Такого просто не бывает.
Нет, конечно, и в Москве благодаря дорогому мэру сносятся исторические здания, а в области еще и леса вырубаются с парками, но чтобы людей выгонять на улицу? Чтобы в НИИ сад рубить? Чтобы в столице сносить рощи? Чтобы отбирать у человека, не сделавшего ничего противозаконного, принадлежавшую ему картину Рембрандта, да еще судом грозить?! Такого просто не бывает.
Полное впечатление того, что город захватили интервенты. То есть оккупанты. То есть враги.
На месте срубленных деревьев сажают елки. Самое подходящее дерево для города, в котором летняя жара достигает порой 50 градусов. Елки не приживаются. Гибнут. Сажают новые. Они тоже гибнут. И так далее. Оборот денег в природе. Тени они тоже не дают, даже если вырастут.
Боюсь подумать, что стало с картинами музея искусств. Боюсь. Уже читала, что некоторые продавались на заграничных аукционах.
Боюсь представить, что станет с дворцом Великого князя. Боюсь. Там тоже реставрацию затеяли.
«Вакханалия какая-то! Застройщики, как волки в человечьей шкуре, вгрызаются в плоть любимого города, уничтожая все на своем пути. Они рвутся на манящий запах наживы с глухой злобой и ненавистью ко всем окружающим.
В их глазах лишь золотой телец. Ослепленные им застройщики не видят ничего: ни величественных деревьев – своих ровесников, ни людей, привязывающих себя к деревьям, чтобы защитить их от дровосеков, ни слёз детей и стариков. Родина для них – пустой звук. Не думают они об Отчизне, а думают лишь о собственной выгоде»3.
Это не мои слова. Это пишет мой друг Игорь Цой. Из Ташкента.
Я же говорю, оккупанты. Правда, в еще незавоеванном городе. Битва еще идет.
Гениальный писатель Чингиз Айтматов нашел для таких термин. Манкурты. Это те, после которых хоть потоп.
Кажется, они добьются потопа. После чего город прекратит существовать. Окончательно.
Останется макет. Псевдовосточный китч. Царство алюкобонда.
Узбекистанский писатель Тохир Малик, прямо скажем, не блещущий талантом, зато обвинивший в безбожии (!!!) советского писателя Абдуллу Каххара, человека неизмеримо более талантливого, придумал для своей трудночитаемой книги заглавие, просто кричащее о ситуации в стране: «Шайтанат». Царство шайтана. То есть дьявола. Бесовщина. Именно так можно обозначить происходящее в Узбекистане и Ташкенте.
Единственная надежда на то, что люди перестали покорно выносить любой произвол. Они больше не молчат. Они борются. При полном молчании властей страны. И я всей душой с ними. Успеха в борьбе, мои друзья.
Один господин назвал меня диванной патриоткой. Что же, в какой-то степени он прав. Вряд ли 75-летняя женщина, живущая в трех с половиной тысячах километров от Ташкента, может бороться по-настоящему. Но сердце все равно болит. И я не могу равнодушно смотреть на все это. Не могу.
Мой бедный любимый город…
* Напечатано с разрешения Баха Ахмедова.
ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ…
Не так давно я впервые за миллион лет взяла в руки скрипку. Руки помнят, как ее держать, а пальцы забыли, как правильно стоять. Попробовала поводить смычком по струнам – фальшь душераздирающая. Значит, снова нужно начинать и упражняться – где уж мне сейчас? А ведь когда-то музыкальную школу заканчивала. И два курса училища, правда вечернего и отделения теории музыки. А теорию музыки принимал у нас сам Дмитрий Исаакович Штерн. Умница… как он меня ругал за лень, до сих пор вспомнить приятно!
Как-то все сейчас вспоминается как сплошь радость и солнце, хотя на самом деле все было не так. Занятия, занятия, экзамены, ни одного выходного за шесть лет – оркестр. И все-таки учителя почти все были свои. В смысле друзья. Не было особых строгостей. Не было понукания. Задавали – выполняли.
Самоотверженные люди. Да, у меня шесть лет не было выходных, так и у Дим Димыча, нашего руководителя, их тоже не было.
И у нас работала прекрасный преподаватель музлитературы и теории музыки. На уроках выяснилось, что я без подготовки умею подбирать любую мелодию. И что, в общем, умею писать диктанты и разбираться в премудростях гармонии.
Странно, что я, в то время легкомысленная лентяйка, завсегдатай музеев, библиотек, кинотеатров и зоопарка, не желавшая учиться вообще и в частности и в то время уже охладевшая к скрипке, полюбила разбираться в тонкостях трезвучий, интервалов, септаккордов, больших и малых, мажорных и минорных, увеличенных и уменьшенных…
Спроси меня сейчас – ничегошеньки не помню. Разве что ноты и трезвучия. Интервалы тоже помню. Септаккорды – увы… И, конечно, музлитература. За что я безмерно благодарна педагогам. Открывшим мне Баха и Бетховена. И даже Прокофьева, хотя сначала я никак не могла его услышать. А потом услышала. И это своего рода чудо.
На почве теории музыки мы подружились с Фридой Хойкер. Фрида была моей одноклассницей в сорок третьей школе и тоже училась в музыкальной школе имени Садыкова, только по классу фоно. Жила она вместе с родителями и бабушкой в частном доме. Во дворе дома был еще один, где жили ее дядя с женой, носившей удивительное для Ташкента имя Паола.
В последнее время в памяти так ясно возникает этот залитый солнцем двор и мы с Фридой. Сидим с учебниками, зубрим, готовимся к выпускному экзамену.
– Ну, давай еще раз… Септаккорд…
– А теперь квартсептаккорд…
– И доминантовый квинтсептаккорд…
Что только не умещалось в наших головах? Просто диву даешься.
Но помнили же! И действительно знали!
Я просто поселилась в доме Фриды: прерывались мы только на обед. Бабушка готовила так, как могут готовить только еврейские бабушки, скорее всего тоже украинского происхождения.
Как-то в воскресенье мы, окончательно ошалев от зубрежки, упросили дядю Фриды повезти нас на Комсомольское озеро. И уж там порезвились вдоволь.
Несмотря на учебу, несмотря на экзамены, так хорошо было сидеть на весеннем солнце, в тысячный раз повторять септаккорды, знать, что шесть лет музыки заканчиваются…
А потом был выпускной. Настоящий.
Почему-то мы с него удрали. Побежали в обсерваторию, где всегда был оазис прохлады, зелени и цветов, нагло и открыто ободрали клумбу с большими розами сорта «президент», розовато-желтыми, вернулись в школу и подарили ворованый букет Мине Борисовне Шамшидовой, нашему самому любимому педагогу, имя которой я всегда вспоминаю с благоговейным уважением. После чего с сознанием исполненного долга налопались стоявшей на столах черешни. Тоже розовато-желтой.
Эх, бедный Дим Димыч Тарасевич, распался его оркестр, пришлось новых собирать. Мы были первым выпуском.
Потом было мое поступление на вечернее отделение училища имени Хамзы, как можете себе представить, на теорфак, который я не закончила, погнавшись за высшим образованием. Несмотря на все сетования мамы, оно, может, к лучшему. Это тогда детей из приличных семей полагалось учить музыке. А сейчас – сомнительно. Нас и иностранные языки неплохо кормят, а в девяностые так вообще спасли. С другой профессией мне вообще бы тяжко пришлось.
И, кажется, давно забылись шесть лет без выходных, потому что по воскресеньям были репетиции оркестра, и даже если ты вздумаешь пропустить, за тобой придут и потащат, благо идти всего один квартал. Забылась необходимость идти на другие уроки после школы.
Обидно только, что из моего потока почти никто не продолжил занятия музыкой. Леня Туровский – врач, живет в Нью-Йорке. Лена Бронова давно умерла. Я – не скрипачка. Я переводчик. Тамара Джурунцева, когда-то дирижировавшая нашим оркестром, уехала в Канаду. Фрида стала математиком, вышла замуж за моего хорошего знакомого Гришу Молтянера, тоже математика, вместе они объездили весь свет, сейчас тоже живут в Канаде…
Печальнее и больнее всего было узнать о судьбе Шаи. Саша. Фамилию я забыла. Самый талантливый из нас. Толстенький, заласканный мамой и бабушкой еврейский мальчик.
Он ведь в консерваторию поступил.
Я так и не поняла, каким образом и по какому праву его забрали в армию. И почему мама ничего не смогла сделать. В армии он наверняка смотрелся, как я – на сцене Большого.
И я примерно представляю, что ему пришлось вынести в этой самой армии. От такой несправедливости во мне все переворачивается.
Ну и… все можно было предсказать с самого начала. Повесился он. Не вынес, бедняга, издевательств…
Как страшно…
Вот и распался, растаял, разорван наш круг. И ничего больше не вернуть.
Дела давно минувших дней.
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДОМАХ
Что-то длинное название получилось. Но короче не выйдет. Память никак не стареет. И никак не хочет уняться.
Ташкентские дома…
Когда-то весь город был в частных домах и коммунальных дворах. Никого это не смущало и не тревожило. Естественно, были те, что побогаче, и те, что победнее.
Так вышло, что я жила в районе, где находились дома людей известных, и не только партработников, но и врачей, профессоров, ученых, и я совсем недавно выяснила, что в этом же районе жили мой декан Евгений Федорович Ваганов и Усман Юсупов. Когда-то на близлежащей улице жил и Акмаль Икрамов. На Обсерваторской (параллельной Кренкеля) вообще жили люди, невероятно много сделавшие для города и страны. Мемориальных досок от страны они не дождались. А дождались сноса.
Как и многие старинные здания поразительной архитектуры. Сложенные из поразительного кирпича. Так называемого николаевского. Он у́же нынешних стандартных, серовато-коричневатого цвета и при сносе растаскивается в мгновение ока. Потому как на века.
Но обыкновенные частные дома в центре строили из фабричного кирпича, а вот в Старом городе и на окраинах – из кирпича необожженного. Саманного. Саман – это глина, песок, мелко нарезанная солома, земля, и все это размешивается с водой. Кирпичи делаются вручную. Я видела формы для кирпичей: что-то вроде носилок, разгороженных по размеру кирпичей, и с ручками с обеих сторон. Саман набивается в формы, подсыхает, носилки переворачиваются, кирпичи выпадают, как детские кубики, их укладывают в стены.
В узбекских домах полы и стены были глинобитными, крыши часто крылись камышом, поскольку ни черепицы, ни рубероида, ни шифера тогда днем с огнем было не достать. В стенах делались ниши для посуды и одеял-курпачей, мебели был самый минимум, а в полу почти всегда был вырыт сандал – яма, обмазанная глиной и наполненная горящими углями. Над ней ставился низкий столик и накрывался одеялом. Члены семьи просовывали ноги под одеяло и так обогревались. Очень опасное приспособление, и при этом трагедии случались довольно часто.
Но иначе узбекские дома не отапливались. Нынешнее поколение вовсе не знает, что такое сандал.
Совсем другие здания строились в Новом городе. Из обычного кирпича. Как правило. Правда, и глинобитные мазанки встречались. В коммунальных дворах. Но в основном кирпичные. Очень добротные. Тоже строили на века. Не предполагая, что придут иные времена.
Интересно, что когда я выложила снимки потолков в нашем доме, оказалось, что такие были во многих домах. Из крашеной фанеры, с затейливыми узорами, тоже выпиленными из фанеры. Я не так давно побывала в доме постройки 1937 года. И там потолки фанерные, только попроще. Не знаю, были ли такие в других Республиках и даже других городах Узбекистана.
О паркете до землетрясения никто понятия не имел. Я часто писала, что полы в сорок третьей школе натирали мерзкой мастикой. Так вот – полы эти были не паркетные. Как и во всех остальных домах центра – из крашеных досок. Менялась только ширина. Полы из крашеных досок были везде. Интересно, что у нас однажды меняли вполне крепкий пол. Бесплатно, разумеется. Поднимали доски, ставили поперечные опоры, засыпали песком, клали новые. И красили. Как правило, в коричневый цвет. Других не видела. Правда, в конце семидесятых появилась, на мой взгляд, совершенно идиотская мода: полы обтягивались ситцем и лакировались паркетным лаком. Но это было потом. А пока – коричневые доски.
Насчет обоев речи тоже не шло. Может, у кого-то и были, но во всех моих знакомых домах стены белили. Цветной побелкой. У людей обеспеченных на побелку специальными резиновыми валиками наносился так называемый накат – золотые или серебряные узоры. Иногда поверху шел трафарет – очень красивый узкий узор. Цветной.
Однажды жулик-продавец сбагрил маме побелку с негашеной известью. И все комнаты скоро украсились бесчисленными крошечными вулканчиками: известь потихоньку взрывалась, портя стены.
Я впервые увидела квартиры с обоями после землетрясения. На Чиланзаре.
И, конечно, никаких сандалов. Простые печи и печи-контрамарки. Печи на кухнях, вместе с примусами и керосинками, контрамарки – в комнатах. Металлические корпусы для контрамарок делались в одной из многочисленных мастерских напротив Алайского. Раньше я думала, что контрамарки и голландки – одно и то же. Но оказалось, что голландские печи обложены изразцами или кафелем. Я видела такие в некоторых дореволюционных домах.
Вообще, вспоминая сейчас эти дома, остается только удивляться, насколько они были уютными. Старые стены, старая мебель, иногда и хозяева уже старые, и какие-то особенные запахи. Нет, не неприятные. Запахи устоявшегося быта, ветхих вещей, старых книг. Милые старушки, бравые старички; на столах всегда чай, печенье, фрукты; садики с цветами по сезону, и никогда никаких овощей и огородов.
Помню огромный коммунальный двор в конце Обсерваторской. Палисадники… Цветы. Деревья. Ясени вперемежку с вишнями, абрикосами, яблонями…
В позапрошлом году этот район еще существовал. В этом за него взялись основательно.
Прекрасные, крепкие старые дома, хозяева которых достойны всяческих почестей, уходят в небытие.
Жертвы алчности, подлости, манкуртизма…
ЛИЦ НЕОБЩИМ ВЫРАЖЕНЬЕМ
Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.
Евгений Баратынский
Доводилось ли вам замечать выражение лиц на старых-престарых фотографиях? Напечатанных совсем другим способом и снятым на фотоаппарате «сейчас вылетит птичка»? Дагерротипия, потом фотография… Помните те лица? Нет, совсем необязательно красивые и совсем необязательно умные. Но смотрят так, словно знают что-то, нам неведомое. Словно думают совершенно о другом, нам недоступном. Словно уверены в чем-то таком, о чем мы понятия не имеем.
Понимаю, что людей с таким выражением лиц не может остаться. После стольких войн.
Но понимаю также, что в глазах этих людей уверенность. В некоей стабильности. Вечности, что ли…
Причем совершенно неважно, кто там, на этом снимке. Графиня или крестьянин. У меня есть старый снимок, на котором изображена семья прадеда моего мужа. Типичные крестьяне. Степенные, трезвые, чисто одетые. И все те же глаза. Смотрят в будущее уверенно. Это, конечно, еще до Первой мировой.
Люди жили по-другому. Основательно. Не тряслись, что могут уволить, если уйти с работы вовремя. Не тряслись, что цены подскочат до небес. Просто жили.
И здания строили основательно. И мебель «строили» основательно. Те немногие старые дома, которые еще не успели снести в Ташкенте, простоят гораздо дольше новых. Там архитектура особенная. Там кирпич николаевский. Не чета нынешнему. Недаром те, кто разрушает, потом этот же кирпич растаскивают. Такого просто сейчас не бывает. И не будет.
Все делалось на века. Потому что основа в жизни была. Наверное, не у всех. Но в большинстве.
В моей молодости еще были живы бабушки-старушки, пережившие две мировых и Гражданскую. Безупречная речь. Безупречные манеры. Безупречный вкус. Ясные, светлые лица. Независимо от образования.
Я обожала бывать в их домах. Где все говорило о прошлом. Там и запах стоял другой. Невыветрившихся духов. Книжной пыли. Чего-то старомодного, недостижимого. Безделушки. Мелочи, которыми были набиты комоды. Старые брошки со стразиками. Ленты. Лоскутки. Книги, не издававшиеся в СССР. Лидия Чарская. Ветхий и Новый Заветы. Резные буфеты. Литографии и картины неизвестных художников на стенах. Образки, привязанные к никелированным спинкам кроватей. Матерчатые японки с веерами. Копии скульптур Клодта. Непременное варенье на кухне.
Другой мир. В котором я очень хотела бы жить. У меня там на душе легко. Мне кажется, что там я своя.
Когда-то центр Ташкента был сплошь застроен частными домами. Где сохранялась ТА, дореволюционная обстановка, по той простой причине, что в этих домах жили и до, и во время, и после Революции, никуда не уезжая, не эвакуируясь, не перебираясь в другие города. До Революции Ташкент считался богом забытым захолустьем. Тьмутараканью. Туда ехали энтузиасты. Люди, преданные своему делу. Недаром Великого князя сослали в Ташкент с глаз долой. Очень далеко было от столицы.
Эти люди крайне редко уезжали из Ташкента. Они оставались, оставались дети и внуки. Ташкент стал их родиной. А потом, через много лет – мачехой.
Вот в их домах и сохранялась настоящая мебель, красоты необыкновенной. И те самые безделушки и милые мелочи.
Все снесено могучим ураганом…
Помните, я писала о почтамте? О необыкновенной атмосфере этого места? Эта же атмосфера сохранялась и в других местах, причем очень долго. ДО землетрясения 1966 года. В основном на Бродвее.
Универмаг когда-то был пассажем Арифа Ходжи. Второй этаж был надстроен позже, уже в тридцатых. А на потолке первого резвились ангелочки. И прилавки. Прилавки, внушающие почтение своим видом. Такие же, как на почтамте и в магазине «Узкитаб». Входя в магазин «Узкитаб», я мгновенно проникалась чем-то вроде благоговения. Атмосфера была истинно книжная. Те же самые прилавки. Темно-красного дерева, настоящее произведение искусства. Я могла там бродить по разным отделам, покупать ноты, дышать тем воздухом. А ювелирный? Настоящая пещера сокровищ. Денег, конечно, у меня не было, а торчать там никто не запрещал. Это был ТОТ ювелирный. С ТЕХ времен. Тоже почему-то полутемный. Там всегда горел свет. И переливались золото и камни.
А это уже говорю не я. Это Лида Козлова, дочь директора Русского театра Горького в пятидесятые. Вот как был обставлен кабинет ее отца (жаль, я там никогда не бывала):
«В красный небольшой кабинет каким-то образом затолкали гарнитур в стиле ампир. Тяжеленные кресла, стол и диван с бронзовыми скульптурными нашлепками. Двуглавые орлы, львиные морды, когтистые лапы вместо ножек! Просто можно сойти с ума! Откуда это богатство? Не иначе, из резиденции генерал-губернатора. А какая здесь библиотека!!! Брокгауз и Ефрон, Метерлинк, Кнут Гамсун… Пытливое око борцов с крамолой никогда не заглядывало в эти шкафы»4.
Представляете, какое чудо? И заметьте: ее отец не пытался под шумок списать и увезти мебель и книги, все оставалось на своих местах.
Интересно, чей кабинет все это украшает сейчас? Как и вазы из кондитерского отдела гастронома на той же улице. И из кондитерской на Пушкинской. В гастрономе тоже были такие же прилавки. У меня просто руки тянутся погладить каждый… да только руки эти коротки. Весь тогдашний Бродвей дышал стариной…
А аптека Краузе на Пушкинской? Эх…
Другие люди. Профессионалы и мастера. Другие критерии. Другие принципы. Другие идеалы.
Почти ничего не осталось. Почти. Еще немного, и…