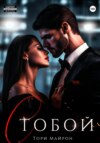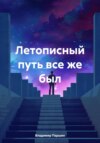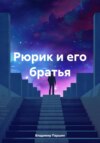Читать книгу: «Причерноморская Русь», страница 4
Поэтому напрашивается результирующий вывод, что в данном документе сделана компиляция двух сообщений: одно о действиях русов с Дона под S-m-k-r-c с хазарами, другое – о походе князя Игоря совместно с русами с Дона на Византию летом 941 г.
Возникает вопрос: почему русы с Дона согласились на авантюру с хазарами? В то время был еще Великий шелковый путь, один из маршрутов которого шел к северу от Каспия. Затем путь переходил к Дону, а с Дона сухопутным маршрутом к Тавриде (Херсон), оттуда в Черное море и в Константинополь. Хазары получали приличный доход от транзита на этом пути. Но в северном Причерноморье обосновались печенеги и на этом участке торгового пути могли возникнуть (и они возникли) проблемы. А поскольку вся война была спектаклем, то, на мой взгляд, согласованные действия хазар и русов были направлены на организацию нового морского участка торгового пути: Константинополь – Самкерц – Дон, далее переволока в Волгу и через Каспий на Ближний Восток. При этом хазары получают спокойствие на маршруте (а это доходы!). Учитывая, что из района Таматархи нефть отправлялась кораблями для “греческого огня” в Византию, проблем для приема большого числа кораблей в этой точке, видимо, не было. Для русов получить в свое распоряжение порт тоже было выгодным предприятием. Но что-то пошло не по “сценарию”.
Летом 941 г. состоялся совместный поход князя Игоря и русов с Дона против Византии. При этом был нейтралитет со стороны Хазарского каганата. Потенциальными союзниками Игоря были враждующие с империей венгры. Что характерно, русский летописец, всегда показывавший состав войска русских князей (перечислял народности), в данном случае ничего не сообщает о составе войска. Просто «Иже и поидоша, и приплуша, и почаша воевати». Т.е. об этом походе у летописцев в качестве источника был только народный фольклор.
Каким образом могли быть установлены контакты днепровских русов с донскими? Учитывая период повышения увлажненности климата, можно напомнить известные торговые пути с Днепра на Дон через Десну и Сейм. Вверх по Сейму до устья р. Трускарь (у Курска), вверх по Трускарю до р. Теребуж, по которой до дер. Вышний Теребуж, откуда по озерно-речной части, включая волок 1,5 км до р. Касоржа. По р. Касоржа спуск до р. Тим, по которой спуск до р. Сосна, по которой спуск в Дон (выше с. Донское Задонского р-на Липецкой обл.). Другой маршрут был от притока Сейма р. Рать до с. Крутое, далее волок 4 км до с. Козловка с входом в р. Щигор. Спуск по Щигору до р. Касоржа и далее – аналогично варианту выше – в Дон (выше с. Донское Задонского р-на Липецкой обл.). Был еще один путь, позволявший попасть сразу в Меотиду, не впадая в Дон. Вниз по Днепру до устья р. Самара. Вверх по Самаре до устья р. Волчья. Вверх по Волчьей до с. Нейтайлово, далее по речно-озерной системе до с. Опытное. Далее волок 6 км до р. Кальмиус, по которой в Меотиду (Азовское море). В этом случае контакт мог состояться уже в Меотиде. Волоки по своей земле более безопасны, чем преодоление 75 км днепровских порогов, где, кроме них, имелось 30 каменных гряд (перекатов). И все под обстрелом печенегов с двух берегов Днепра. Т.е. возможные потери еще до начала боев у Константинополя. Значит из Днепра к Дону и далее в Азовское море.
Возможно, суда прошли через Керченский пролив, а м. б. по древнему каналу, соединявшему Сиваш и Каркинитский залив. По основному поверхностному течению направились к Босфору Фракийскому. Очевидно, что и возвращение более безопасно через пролив и реки, а не через пороги, под обстрелом печенегов. Поэтому в работах и упоминается возвращение к Боспору Киммерийскому.
Об этом походе написано много как в хрониках, так и в современной литературе. Но что характерно, русские летописцы исказили события того похода. Н.Я. Половой: “летописцы сознательно исказили события, скомпоновав их так, что флот Руси был уничтожен после того, как русы ограбили предместья Константинополя и натворили много бед грекам”. Я.Н. Щапов: "князь, вернувшись в Киев, не мог предполагать, что значительная часть русских воинов избежала поражения и еще несколько месяцев воевала в Малой Азии, о чем рассказали византийские хронисты”. Потерпевший поражение у Иерона русский флот не остался без руководства. Была предпринята попытка прорыва, было дано второе морское сражение. Очевидно, что все это осуществляется под единым командованием – вероятно Х-л-гу.
Ни в одном европейском источнике не говорится, что воины или князь были киевскими. В текстах только росы. Лиутпранд Кремонский писал: “король Игорь повелел своему войску не убивать их, а взять живыми. … После этого Игорь в великом смятении ушёл восвояси“. Нигде ни слова ни о каком-либо Киеве!
Князь Игорь решил повторить поход в 943 г. с участием варягов и печенегов, но без русов с Дона, которые ушли на Бердаа. Здесь очень интересен состав войска Игоря. Согласно летописям, «совокупи воя многы – варягы, и русь, и поляны, и словены, и кривичи, и тиверцы, и печенегы». Не упоминаются северяне, древляне, дреговичи? Они что, вышли из подчинения? Относительно этого перечня историк С.Э. Цветков (Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава.) отмечал: «пестрый этнический состав Игорева войска, в том виде, в каком он представлен в летописи, не соответствует истине. Восточнославянские племена зачислены летописцем в Игоревы «вой» произвольно [133]. … в 944 г. «поиде на грекы в лодиях» одно лишь «русское» ополчение … Именно малочисленность собственного войска заставила Игоря прибегнуть к найму печенегов». Что очень важно, летописец упоминает полян отдельно и русь отдельно. Это может свидетельствовать о том, что русы представляют собой не только властную, но и этническую общность. Арабские и восточные источники противопоставляя русов и славян, сообщают, что русы жили в городах, а славяне, наоборот, в деревнях. До военных столкновений у Игоря дело не дошло. Переговоры состоялись где-то на Дунае, и Игорь согласился взять богатую дань без боя. Т. о., поход Игоря в 943 г. – не война, а её имитация. Цель этого похода – восстановление торговых отношений с греками.
Русы с Дона ушли на Бердаа. Тот факт, что они не приняли участия в повторном походе Игоря, свидетельствует о том, что никакого объединения с днепровскими русами не было и они продолжали самостоятельное существование. Этот поход известен по арабским хроникам Ибн Мискавейха. Из его описания следует, что русы пришли в Бердаа не для того, чтобы разграбить город, а для того, чтобы нем остаться и править. В этом походе на стороне русов принимали участие аланы и лезгины. Бедствием для русов стала эпидемия желудочного заболевания (“русское кладбище”), что и послужило их уходу. Н.Я. Половой: «есть все основания утверждать, что это была часть отряда Хальги, отправившегося после похода на греков в Персию. Но и там неудачи постигли отряд Хальги. В Персии погиб вождь и значительная часть самого отряда».
В 944 г. между византийскими императорами и князем Игорем подписан мирный договор. Теперь княжество Игоря официально признано как государство, имеющее выход к Черному морю, т.к. по договору стороны разделили северное побережье Чёрного моря на зоны ответственности (а не сферы влияния): русская – Восточный Крым и Приазовье, греческая – Южный и Западный Крым. Устье Днепра находится в совместном владении. Главный враг Корсуни и русского князя по договору – чёрные болгары, против которых должен воевать русский князь. Русы провозглашены союзниками (политическими и военными) императора. Но греки продолжают называть днепровских русов росами, что свидетельствует об их тождестве.
Где же был центр днепровских русов? Ведь Лев VI указывал только на верховья Днепра и при этом не знал ни Киева, ни Киоава (известный Константину VII). Можно оппонировать, что Киев упоминается в договорах. Но! Это не оригиналы, а копии, которые вписаны в летопись монахом XI-XII века. Столичный Киев в его время уже существует – куда без него, а вот с Переяславлем продолжается прокол – его все еще нет (до 993 г.), да и Полоцк живет независимо.
Археология свидетельствует, что из-за увлажнения климата и высокого стояния весенних паводков, приводящих разливу Днепра и затоплению низменных частей, население предпочитало селиться на возвышенностях. Археолог П.П. Толочко (Древний Киев) писал, что «подтверждает выводы геологов о том, что именно в этот период в районе Киева наводнения происходили особенно часто.» Исследования, проводимые на Подоле, вблизи гавани р. Почайна в 1972 г. показали отсутствие постоянного население на Подоле между 913 и 972 годами.
Где же могли жить те князья, о которых писал летописец? Археологами была выдвинута версия, что русы на верхнем Днепре обитали в Гнездово (в 12 км от Смоленска) в месте слияния рек Днепр и Свинец (правый приток). Результаты экспертизы четырех древесных стволов, три из которых относятся к самой раннему культурному слою, показали время возникновения поселения не позднее последней четверти VIII в. [15]. Анализ погребений показал, что население Гнездово было полиэтничным. Согласно Т.А. Пушкиной (Нумизматические материалы из раскопок Гнездова. Великий Новгород в истории средневековой Европы.), самая ранняя монета, найденная в центральном городище Гнездово «это медная хорезмийская монета, чеканенная в 579-590 гг.». А.О. Шевцов в [30] приводит таблицу (№5), на основании данных которой заключает: “нумизматические материалы указывают на то, что до того, как Киев стал основным пунктом торговли между Русью и Византийской империей, прямые контакты между Гнёздовом и Константинополем существовали … активизация этих связей пришлась на 930-940-е годы (судя по доминирующим монетам Романа I), а затухание – на 960-е годы. Таким образом, анализ обширной коллекции византийских монет, а также обилие других находок византийского круга из Гнёздова подвергают сомнению монополию Киева в русской торговле с Константинополем, как минимум, до середины X в.” Он также отмечает одну особенную находку, которая может свидетельствовать о том, что какие-то жители Гнёздово были участниками посольства в Константинополь. ”Наличие двух субэратных подражаний солидам только подчеркивает использование золотых монет как предметов статуса: изготовлены они были таким образом, что позолота покрывала и ушко, и монету, т. е. они изначально были предназначены для ношения. … Эти солиды являются статусными предметами, возможно, символизировавшими принадлежность их обладателей к наемникам или участникам посольства в Константинополь, где на дипломатических приемах византийский император дарил монеты в соответствии с рангом человека (Morrisson, 1981. P. 136). Очевидно, что участники посольства принадлежали к элите древнерусского общества.” В раскопках Киева таких солидов найдено не было. Но основные монеты в Гнёздово – серебряные. Согласно [4]: “Концентрация значительного объема серебра в руках местной элиты указывает на то, что основное направление торговой активности определяли восточные связи. Первый пик фиксируется во второй четверти X в., вторая волна достигает Гнёздова в 40–50-е гг. этого столетия. Завершающий, отчетливо прослеживаемый приток восточных монет в Гнёздово относится к концу 50-х – началу 60-х гг. X в.” Согласно археологу Д.А. Авдусину (Гнёздово и Днепровский путь. Новое в археологии.), Гнёздово не только контролировало, но и обслуживало волоки Днепровского участка. Этот центр был связан через Зап. Двину с Балтикой, по Днепру с Черным морем; по Угре с Окой и по ней с Волгой. Широтный торговый путь «Западная Двина – Днепр – Ока – Волга» (г. Булгар на Волге) был основной транспортной артерией в истории Гнездово. Именно здесь (насыпь Л-214) было найдено погребение, в точности соответствующее описанию погребения знатного руса Ахмад ибн Фадланом [11] при посещении им волжской Булгарии. Центральное Гнёздовское поселение, согласно [22], формально обрело структуру (крепость + посад) именно в период своего расцвета – во второй четверти Х в.
Наиболее вероятно, с моей т. зр., что сначала центром днепровских русов до середины 940-х годов было именно Гнёздово. Позднее (после договора 944 г.) приоритет начинает переходить к новому центру – Киеву (Киоава, по Константину VII). Это не удивительно. Исследуя пути к морю и спускаясь по Днепру из Гнёздово, невозможно не заметить удобное расположение киевских высот (от 145 до 200 м). Согласно Константину VII, Киоава сначала выступает как пункт подготовки торговых судов для продажи их росам: “приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы … спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. … Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам.” Сборным пунктом судов перед выходом в Византию, согласно Константину VII, является Витичев (совр. Витачов – крепость-пактиот росов). Русы выступают не только как особая политическая общность (властная) со своими законами, но и как общность этническая [10].