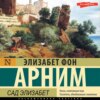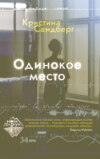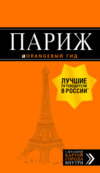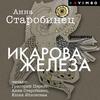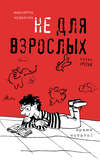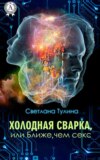Читать книгу: «Город уходит в тень», страница 5
ТОСКА ПО РОДИНЕ
Попрекают меня. За то, что вмешиваюсь в дела чужой страны, а сама призываю ни в коем случае не лезть в дела чужих стран.
Только это не чужая страна. Это моя родина. Какая бы ни была, а родина одна. Не выбирают ни родину, ни родителей.
Родина моя. Ограбленная, вырубленная, почти изничтоженная, униженная, изнасилованная родина, я тебя все равно люблю.
Потому что хоть и была сама и видела и вижу, что с ней сделали и что творят сейчас, все равно не могу отвернуться.
Закрою глаза и вижу ее такой, какой она была. До всего того кошмара, в котором оказались мы все. До незалежности, самостийности, мустакиллика, независимости, свободы и демократии.
Кто там недавно написал? Как ее мама когда-то приехала в Ташкент и долго не могла опомниться, потому что увидела там настоящий рай.
Там. Настоящий. Рай.
Был.
Видите ли, рай – необязательно кущи и ангелы с арфами. Такое ви́дение рая – скучно и рассчитано на недалеких людей. Лично я надеюсь после смерти попасть в Ташкент, увидеть всех своих друзей, родных, сбегать на Алайский и зажить прежней прекрасной жизнью. Было же у Брэдбери: космонавты попадают каждый в свой родной город, где их ждут родные. Правда, их убивают, но меня-то не убьют – я к тому времени уже умру.
Так что надеюсь.
Надеюсь вновь увидеть родные улочки, иногда узкие, кривоватые, родной Сквер, посидеть там под каштаном, потолкаться по Алайскому, шумному, грязноватому, своему. Долго-долго смотреть на лотосы в фонтанчике парка ОДО, полюбоваться на веселых детей в парке Горького… вот увидите, меня все это ждет.
Кто сказал, что мертвые парки, скверы, базары, здания, улочки не попадают в рай? Не может этого быть. Непременно увидимся. Скорее раньше, чем позже.
Море зелени. Океан зелени. Царство прохлады. Два больших озера. Анхор. Салар. Бурджар. Фонтаны, где летом сидели все мальчишки города. Дома. Не псевдовосточный китч, не современное уродство неумелых архитекторов, сляпанное руками неумелых строителей. Дома. Не нужно думать, что частные дома были развалюхами. Очень многие были красивыми, крепкими и уж точно не китчем.
Я не буду перечислять все убитое, срубленное и снесенное. И так известно.
Просто одно время я близко общалась с архитекторами. Так вышло. По соседству с родителями поселилась Надя, жена Эдика Фахрутдинова, очень рано умершего создателя ныне уничтоженного кафе «Буратино», с дочерью и новым мужем.
Тогда я жила у родителей, а муж уехал в аспирантуру. Ну и заглядывала туда по вечерам. Там почти всегда собирались компании. Нет, не пьянки. Разговоры.
Вспоминая эти разговоры, я сомневаюсь, что современная молодежь мне поверит. Я и сама себе уже почти не верю. Что такое могло быть.
Это когда не о политике, не о «голосе Америки», не сплетни, не мода, не карьера, не выгодная женитьба, не кто кого подсидел, а яростные споры о Торговой палате. То есть о здании Торговой палаты, ныне снесенном. Как водится. Стоило ли покрывать части конструкции листовым золотом или нет? Бездари ли авторы или нет?
Насколько я поняла, Палату проектировал другой коллектив. Ну и…
Споры об архитектуре. Мудреные математические термины – муж Нади был математиком. Физики, лирики, книги, стихи, каким быть Ташкенту, кто что написал, кто какие книги раздобыл… и где раздобыть еще, и куда сходить, и какой фильм…
Совершенно немыслимые сейчас темы. И, я бы сказала, немыслимый менталитет.
Всего-то шестидесятые.
И все еще живы.
Сквер и ОДО.
Парки.
Чинары.
Прекрасные дома.
Прекрасные памятники.
Скульптуры на Педагогическом.
Настоящие базары, а не их призраки.
Жив город.
Главное, улицы.
Улицы не вымершие.
Посмотрите на улицы нынешнего Ташкента. Редко-редко пройдет кто-то. Если не споткнется. Асфальт не клали уже лет …дцать. Стерт до камешков.
Еще не разъехались греки, главные портные и парикмахеры города. Пройдет не так много лет, и за ними последуют русские, евреи, армяне, узбеки, татары…
И никто не будет вспоминать, что раньше, при колонизаторах, абсолютно все жители Республики ездили в Москву не улицы подметать и заборы красить, а исключительно в командировки, на съезды, в отпуск, на декады узбекского искусства, гастроли и, конечно, учиться. В институтах и аспирантурах. А не на базаре торговать.
Дом из теплого превратился в ледяной.
Идешь раньше по улице – все свои. Ей-богу. Как в деревне. Почти все знакомые. Особенно на рынке и на Бродвее. Словно какой невидимой нитью связаны. Ощутимое тепло. Всеобщая доброжелательность. Даже перебранки на Алайском какие-то незлобные. Как вроде полагается для приличия.
Мы купались в этом райском тепле, не подозревая, что где-то может быть иначе. Что где-то может не быть таких парков. Таких деревьев. Таких необыкновенных домов. В которых жили необыкновенные люди, столько сделавшие для страны. Им бы кланяться в пояс, мемориальные таблички на двери прибивать. Нет. Всячески стирают память.
Кому могло прийти в голову, что в городе появятся серийные маньяки и примутся зверски уничтожать все, что нам дорого? Даже тем, кто уехал.
Кому могло прийти в голову, что из своеобразного, необыкновенного, сказочного, экзотического города слепят вот это «дорого-бахато», с уничтоженными озерами, изувеченными парками (как вспомню парк Тельмана с пенопластовыми колоннами у входа и изуродованной лестницей), убитым Сквером, снесенными домами, памятниками и скульптурами? Одни пошлые пластмассовые олени чего стоят! И изломанные световые фигуры на тротуарах. Разве могли быть в прежнем Ташкенте красные фонари на улицах?! Думаю, те, кто разрешал их ставить, просто не знают, где именно вешали красные фонари…
Еще и сокрушаются, что туристов мало. Кому нужен бездарный новодел, который не выдержит мало-мальски сильного землетрясения? Или надеются, что за последующие сто лет кто-нибудь умрет, либо ишак, либо эмир, и сажать будет некого?
Разве представляли те, кто радовался уходу «оккупантов и агрессоров», что ИХ улицы будут уничтожать, ИХ дома будут сносить, выгоняя хозяев, ИХ холодильники будут официально проверять, да еще с комиссией?
Конечно, воровали и тогда. Но такие масштабы тем ворам не то что не снились, а даже в голову не приходили.
Как не приходила в голову и возможность сноса. Возможность вырубки. Возможность уничтожения. Возможность убийства. Особенно Сквера.
Не знаю, читали ли вы Шарля Де Костера. Роман о Тиле Уленшпигеле. Клааса, отца Тиля, сожгли на костре по обвинению в ереси – тогда Бельгия и Нидерланды звались Фландрией, которая находилась под властью испанского короля и католической церкви. Тиль носил на шее мешочек с пеплом отца и повторял: «Пепел Клааса стучит в мое сердце».
Что-то в этом роде я испытываю при воспоминании о Сквере. Самые отвратительные беззакония не вызывают во мне таких гнева и скорби, не дающих мне спокойно жить.
Сколько бы ни прошло лет.
Пепел убитого Сквера стучит в мое сердце.
МАШИНА ВРЕМЕНИ
Я ездила в Ташкент три года подряд. Это когда ностальгия стала нестерпимой.
Ташкент чужой. Свои только люди. Они по-прежнему добры, гостеприимны, душевны – словом, такие, какими никогда не станут люди ни в одной части света (об остальных странах Средней Азии я не говорю, очень мало сталкивалась).
А город чужой. Мне не хочется гулять по чужому городу. Я и не гуляла. Встречалась с друзьями и снова страдала, только не от ностальгии. От обиды. Я понимаю, что города должны меняться. Но не так. Не так варварски. В голове то и дело всплывало слово «беспредел». Но друзья… друзья остались прежними. Некое родство душ, объединяющее ташкентцев, не умерло. Пока не умерло.
Когда-то я каждый год ездила из Москвы в Ташкент. Никуда больше. Ни на какие курорты. Только в Ташкент. И приезжая, я неизменно погружалась в то, что называется счастьем. Вот просто счастье быть в родном городе. Там свое, здесь – чужое. Этот привкус чужого не исчез до сих пор. Но появился и по отношению к Ташкенту.
Моральный бомж.
Это теперь я.
Бомжом быть плохо, даже моральным.
Но в последний приезд мне повезло.
Очень странно повезло.
Зухре понадобились новые занавески. Поэтому она привычно собралась на Чорсу (ох, не дай бог перестроят и переделают, уже грозятся, а это единственный оставшийся островок, подобие чего-то прежнего).
На второй неделе октября погода испортилась. Было воскресенье, шел мелкий дождь, мрачно, пасмурно. Зухра побоялась, что не найдет места для стоянки, и мы взяли такси.
В отличие от меня Зухра топографическим кретинизмом не страдает. Поэтому мы ехали какими-то огородами (о, этот асфальт, то есть не асфальт, а что-то вроде, это даже не вздыбившаяся собянинская плитка, это нечто!).
Ехали мы огородами и приехали непонятно куда. То есть это мне непонятно, а Зухра повела меня к какому-то левому проходику, и мы очутились в другой жизни.
Атмосфера резко изменилась, и нас отшвырнуло лет на сорок назад.
Жарился шашлык (сто лет не видела уличного шашлыка).
Девушка несла поднос с чайником и пиалами.
Сидели и о чем-то мирно переговаривались старики.
Два молодых узбека пили чай.
Сама не понимаю, почему, но меня словно вернули в молодость. Потому что это был тот самый Ташкент, тот самый, который я считала навеки потерянным.
Убейте, не возьму в толк, что творилось со мной в этот момент.
А оно все продолжалось.
Позже мы обнаружили, что настоящий старый вход на Чорсу (с башенкой) не исчез. Пока. Потому что его непременно уничтожат. Как наследие оккупантов. По сердцу резануло будущей болью. Там вход был крытым. И внутри, справа и слева, были магазины, тогда обувные, сейчас – не помню, неинтересно. А в центре сидели старички и продавали дефицит: черный перец и чай со слоном.
Пока Зухра покупала ткань, я бродила по рядам, слушала узбекскую речь, тихо радовалась.
Потом прибежала девочка, пообещавшая за час сшить занавески. Зухра пошла надзирать.
Я посидела на стуле напротив двухэтажного магазина. Дождь продолжался. Мимо шли люди. Зонтики, пакеты, покупки…
Пахло сырой землей и осенью. Вроде бы грустно, но грустно не было. Было нечто вроде ощущения счастья.
Недолгого.
SORORITY ЧЕСУЧОВОГО КОСТЮМА, ИЛИ МАШИНА ВРЕМЕНИ – 2
Слово sorority перевести трудно. В русском есть слово «братство». «Сестринства» – нет. В общем, это женская община, есть и мужские в американских колледжах и университетах. А у нас свое. Чесучовых костюмов, заметьте; это, видать, общая тенденция. А ведь какая ткань была! Где сейчас возьмешь? Тогда мы не догадались и из коломянки платья шить, а ведь если с вышивкой – эффект изумительный!
Взять хотя бы елочные игрушки. Так мы их делали. В детстве клеили гирлянды из цветных колечек, флажки, сестра красную звезду склеила, орехи: втыкали спички и золотили, выдували содержимое яйца в дырочку, втыкали спичку, раскрашивали клоунские лица и сверху на спичку насаживали колпачок из креповой бумаги. Это я помню лет с пяти. Все женщины садились, и клеили, и вырезали. У нас даже была такая самодельная гирлянда – зайцы и гончие. И еще одна: флажки с гербами советских республик.
Вообще, тогда считалось, что девочка должна уметь вышивать. В комнатах лежали салфетки. Связанные крючком и вышитые ришелье. Ришелье – видимо, в честь кардинала? Вот и меня сестра научила. Я даже салфетку вышила. И серединки вырезала. Правда, зря: у нас в доме салфетки были не приняты. И мережку умели. Сейчас даже слова такого не знают, а мы старательно выдергивали нитки с концов, чтобы получилась бахрома. Отступали сантиметра на два, выдергивали нитки из середины, захватывали иголкой по несколько ниток, опутывали ниткой, и так до конца. Можно снизу, можно сверху и снизу. Тогда было и машинное ришелье – очень модны были блузки и костюмы с вышитыми ришелье рукавами и воротниками. Жена моего преподавателя музыки этим зарабатывала, и неплохо.
Моя сестра вышивала гладью. Изумительно. Вот тогда я увидела красные ягоды и птиц на серой коломянке. Эффект потрясающий. А уж крестиком… был крестик простой и болгарский. Простой – как в крестиках-ноликах. Болгарский – плюс еще два стежка: продольный и поперечный. В четвертом классе, когда к нам пришли мальчики, уроков труда в полном смысле еще не было, программу не успели сменить. Вышивали все. Приказано было купить в универмаге, тогда единственном в городе, трафареты. С розой. А у моего соседа по парте, фамилия которого была Худайбергенов, а имени не помню, была белочка. Ох. Тогда это казалось таким преступлением! Все одинаковые, а он – нет!
А вот чего всегда было в избытке – так это мулине. Помните? Всех оттенков! Сестра учила меня так вытягивать нитки, чтобы они не путались! И пяльцы были в каждом доме!
Не знаю, как сейчас. Видела в магазине «Я сама» очень красивые трафареты. В те времена вышивали еще и по канве – такая ткань в клеточку с дырочками. Узоры чертили на кальке, прикрепляли к канве или ткани, вышивали прямо по кальке, которую потом обрывали.
И носки штопали! Тогда носки еще штопали. Поскольку синтетических не было. Капрон появился не сразу, сначала носили фильдеперсовые чулки, и, по-моему, они тоже рвались на пятках. Для штопки полагался штопальный грибок, но если его не было, штопали на электролампах. Тогда они из толстого стекла выдувались, не бились в руках. Штопать несложно, но сейчас этого никто не делает. Помните? Поперечная ниточная решетка, а потом один стежок над ниткой, второй – под ниткой. А еще существовала художественная штопка! Муж как-то выходил из троллейбуса, за что-то зацепился, порвал новое пальто. Отнес в ателье. Ему заштопали так, что при желании не было видно порванного места.
А вязали… мама не вязала. То есть крючком обвязывала платочки: тогда очень было модно носить платочки с кружавчиками и вышитыми инициалами. Иногда вязала занавесочки. Она мне и показала, как держать крючок и как вязать петли и столбики. И все. Впервые я взялась за крючок, когда в моду вошли вязаные блузочки. Еще в институте. Потом снова забросила. А потом… в моду вошли шали. Этого я не снесла. У кого-то есть, а у меня нет?! Стала разбираться. Опять кальки со схемами вязки. И вязала я эти шали разными узорами. А себе связала самую лучшую: белую, с каймой из огромных кругов-цветов. Продавались они за 15 рублей. Иногда – за шерсть. Тогда с шерстью было паршиво. Доставали ворованную, в таких намотанных на картонные цилиндры шпулях. Кто-то приносил, я покупала и всегда была обвязана. И моя семья тоже. И носки я вязала теплые: здесь без них никуда. С капроновой ниткой. И вязали из всего, что ни попадя. Даже из капронового шнура и ниток номер один. Это канцелярские, очень толстые нитки. Черные, плохо прокрашенные. Приходилось красить еще раз. Я связала три таких платья, одно себе, два – подруге и ее сестре. Этакая кольчужка. С отделкой из роз, связанных из катушечных ниток. Я и костюм себе такой связала, кстати. Очень многое вязалось по ташкентским журналам «Вязание». Там были прекрасные узоры для вязания крючком. Доставала и высылала мне свекровь. А на спицах вязать меня научила сослуживица. Зимние вещи вязались на спицах, летние – крючком. Иногда вязались отдельные детали, а потом связывались вместе по выкройке. Я знакомой связала 200 овальчиков, из которых она сотворила очень красивое платье. Тогда стимул был! Старались быть не такими, как все. Сейчас уже запал пропал.
Да, а вот моя свекровь шила. И очень хорошо. Но после смерти мужа словно отшептало – видно, горе было велико. Пыталась она меня учить, но не в коня корм! Я спотыкалась на одном: до сих пор мне не дается умение вдеть нитку в машинку. Теперь я понимаю, что нужно было записывать, это я сейчас делаю, ибо страдаю тяжким техническим кретинизмом вкупе с топографическим – по-моему, это уже слишком!
Сколько муж бился, чтобы мне втолковать: бесполезно. Вот он – умеет. Особенно после глубоко драматической дуэли между ним и его мамой. И почему взрослым так не нравились узкие брюки? Идеология! Скажем, папа мой носил брюки шириной в 32 сантиметра, и попробуй его переубеди! Не действовали никакие уговоры. А я так старалась! Зато потом его брюки легко перешивались в юбки, так что нет худа… Моя будущая свекровь тоже была против! Нужно сказать, в чем-то она была права: при таком росте узкие брюки, в 19 сантиметров, не лучшая идея! Но мода!
Дуэль действительно была полна драматизма! Утром – широкие брюки, к вечеру – узкие! Зато муж научился шить и таки шил для себя куртки и ушивал или расставлял купленные брюки самостоятельно. Он даже молнии вшивает! Что, -по-моему, верх мастерства!
Так что мы, тогдашние женщины, действительно чего только не умели. А нынешним рукодельницам советую использовать голенища сапог, из которых выходят прекрасные сумки. Ибо за границей настоящие, хорошие кожаные сумки стоят от тысячи долларов и выше. Недавно на e-Bay проводился аукцион подержанных сумок «Валентино». Подержанных, прошу заметить. На каждую было ставок по тридцать, а цены переваливали и за две тысячи. Что, на мой советский взгляд, немыслимо. Мне бы в голову не пришло платить такое за сумку, но то мне, а то людям!
Сестры по чесучовым костюмам, а хорошие были времена, верно?
И если раньше от девушек требовалось еще и умение пеленать младенцев (я умела!), теперь, с наступлением эры памперсов, все очень упростилось. Подгузники! Подгузники больше не нужны. И пеленки отошли в прошлое!!! Ура!!!
Правда, и рукоделие сейчас не так распространено, а жаль.
БЕЗ БОЛЬШОГО БРАТА
Где и поговорить с людьми, как не на базаре? Я человек восточный, базар для меня – второй дом. Даже московский. Разницы особой и нет. Поскольку наш рынок, не знаю насколько мирно, но поделили азербайджанцы и узбеки. Узбеки большей частью андижанские. Я интересовалась. Есть, конечно, и другие национальности, но в основном… Узбечки чаще торгуют зеленью. Азербайджанцы – фруктами. Русские – овощами. Тут же крутятся дети. Азербайджанские в школах. Узбекские – далеко не всегда.
Вещами торгуют больше азербайджанцы, но я познакомилась с грузинкой. Свитера, блузки, брюки. Женщина лет пятидесяти с лишним. Анна. И рассказала она, что у нее трое детей. Старшие уже совсем взрослые и помнят СССР. Младшая удивляется, когда мать рассказывает, что можно было почти бесплатно ездить в лагеря и санатории, безболезненно платить за квартиру, свет и газ, что мать с ее высшим образованием имела достойную работу, а не торговала на рынке чужой страны.
Бывая в Ташкенте, я разговаривала с людьми, посторонними и знакомыми. Интересно, что старые таксисты в один голос жалеют о той жизни. О той стране. Молодые… в основном не любят Россию и считают, что много лет жили под пятой оккупантов. На вопрос, почему, освободившись от оккупантов, они толпами ринулись к этим оккупантам и трудятся дворниками, дорожными рабочими и т.д., ответа, как правило, я не получаю.
Недавно прочитала коммент. Пишет молодой человек. Мол, наелись мы экономики при большом брате! Вот сейчас, при мустакиллике (независимость, узб.)…
Это еще ничего. Иногда такая ненависть льется, аж страшно становится. Молодежи промывают мозги. Причем начисто. Так, что своих мыслей уже не остается. Цели вполне понятны. Оккупанты, угнетаемые узбеки, которых обворовывала Москва…
Мне не раз твердили, что я бьюсь головой в стену. И, видимо, считают, что мои переживания – деланные.
А мне боль покоя не дает. Я от нее задыхаюсь.
Давайте попробуем разобраться, чем был Узбекистан при большом брате.
Прежде всего – уникальная, как говорит журналист Игорь Цой, тяжелая промышленность. Угольная промышленность. Огромные рыбхозы. Хорошо развитая легкая промышленность. Удивительно развитые, шагавшие в ногу с последней модой так называемые артели. Сколько раз я привозила из Ташкента обувь, трикотаж: было такое объединение «Малика», не уступало загранице, шедевры просто делали. Весь институт завидовал.
Безупречное, идеальное образование. Тех учителей и преподавателей вузов больше просто не существует. В силу падения самой образовательной системы. Те были… я даже не знаю, как их назвать. Те были образцами. Их, как говорят, отлили и форму разбили.
И при большом брате, уж поверьте, никто не бежал в Москву за завидной карьерой дворника. Я не говорила, что наш дворник – бывший доцент Душанбинского университета? Так вот, он и есть. А его жена у нас подъезды моет. Зато большого брата изжили.
А во времена моей молодости, пришедшейся на шестидесятые, не поверите, после выпускных в школах преподаватели вузов объезжали маленькие города и кишлаки, уговаривали молодежь поступать. В кишлаках не слишком хорошо говорили по-русски, но во всех городах существовали узбекские школы, а в вузах – узбекские группы. Точно так же готовившие специалистов. Тогда узбекская молодежь уж точно не торговала на московских рынках. А дети не бегали тут же, вместо того чтобы за партами сидеть. Тоже большой брат виноват?
Сколько в Узбекистане было больших ученых, академиков, докторов наук, поэтов, писателей, композиторов. Между прочим, узбеков. Что-то сейчас о науке не слышно. Поэты? Есть. Прекрасные. Неизвестные широкому обществу. Газеты? Почти нет. Журналы? Почти все тихо скончались или ведут очень скромное существование.
Кроме системы высшего образования существовала еще система профтехобразования. Сейчас повсеместно, не только в Узбекистане, уничтоженная. Вспомните: на каждом предприятии висели доски с перечнем требующихся профессий. Сейчас хорошего токаря, расточника, шлифовщика, слесаря, сварщика днем с огнем… все мечтают олигархами стать. Да и с инженерами тоже напряженка. Мужа моего держат в 74 года на работе, потому что настоящих конструкторов раз, два и… Его напарник ушел, так почти год замену искали.
Образование тю-тю. Да и для того, чтобы на рынках торговать, оно ни к чему.
Насчет угнетения. Было. Только угнетали всех. Независимо от национальности. Хлопок собирать посылали. Посылали? Посылали. Студентов. Учреждения в полном составе. Школьников вывозили, правда на день. Да вот большой брат тоже угнетал. Картошкой. Морковкой. Капустой. Угнетал-угнетал. Собственный мой муж сидел полтора месяца где-то в районе Луховиц на морковке…
И не мешало напомнить, что именно при большом брате, в 1966 году, центр Ташкента тряхануло. Почему центр? Да потому что более отдаленные районы трясло, но не так. Недаром моя сестра, жившая на Волгоградской, очень удивилась, когда моя мама до нее дозвонилась и стала ругать, что она о сыне не вспоминает. Она ответила: мол, землетрясение, каких много.
Тогда большой брат, и не только он, мгновенно среагировал. Как пошли со всех концов страны эшелоны со стройматериалами и поезда со строителями! А в обратную сторону – поезда с ташкентскими детьми. В крымские лагеря и санатории! За столько отстроили Ташкент? Не помните, молодежь? А вот я помню. К осени началось массовое вселение в новые дома. Кто не хотел уезжать из центра, получали ордера под снос. Въехали в дома на том же месте.
Может, напомнить, что когда в 1988 году в Спитаке (Армения) произошло землетрясение с куда более тяжелыми последствиями – в Ташкенте, считай, жертв не было, только центр перестроили, – последствия не ликвидированы до сих пор? Большого брата не стало. Я не злорадствую, упаси боже. Констатирую. И даже не стоит опровергать мои слова. НЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ. Как считаете, случилось бы нечто подобное при большом брате? И что будет сейчас, если ташкентское землетрясение повторится? И что станется с гордо возвышающимися в центре многоэтажками? Уверены, что при отсутствии большого брата, нормального строительного и архитектурного образования и наличии полного пренебрежения техническими нормами, созданными при большом брате, эти дома устоят? А заодно спросите стариков: мыслимо ли было, чтобы в городах рубили деревья на мебель и паркет? Деревья стояли незыблемо! Попробовал бы кто при большом брате…
Тогда строили. Сейчас рушат. Тогда массово давали квартиры. Теперь из этих квартир выгоняют. Тогда большой брат защищал. Теперь защищать некому.
Почитайте энциклопедию «Ташкент». Заводы. Один. Второй. Третий. Десятый. С каким придыханием говорили: «Завод Чкалова»… «Фотон»… «Ташсельмаш»… «Текстильный»…
Сколько фабрик!
А сейчас только и слышишь: обувная закрылась. Парфюмерная закрылась…
Знает ли нынешнее поколение, какие Дома культуры, какие клубы были при большом брате? Какие при них были секции, кружки, театры даже?
Занимается ли в них сейчас молодежь?
Некогда. Нужно на хлеб как-то зарабатывать. Поскольку пенсия у стариков 100 долларов, а зарплата в узбекских фирмах – 200… А продукты дорожают просто на глазах.
Когда я три года назад, впервые за много лет, приехала в Ташкент, доллар стоил 6 тысяч сум. А сейчас сколько? Больше девяти?
Почему-то о соотношении рубля к доллару при большом брате никто, вообще никто не задумывался. Не было нужды.
Я тут недавно задалась вопросом: почему раньше мы не слушали так внимательно новости? Да и никаких политических ток-шоу не было. Мы не интересовались, кто нынче правит в Европе. Ну, говорили, ну, слушали вполуха. И все. А теперь – слушаем. Потому что раньше мы вставали и знали: как было электричество по 4 копейки, а там, где электроплиты – по 2, так и останется. Сегодня. Завтра. Через год. Через 10 лет. Как работал ты, так и работаешь. И никто не скажет: пошел вон. И никто из дома не выгонит. И никто не станет рубить столетние чинары. И Сквер как стоял, так и стоит… Ах, большой брат, как же ты был предсказуем. Мороженое по 15 копеек? И завтра? И через 10 лет? Непорядок. Нужно взбаламутить. И взбаламутили.
Пусть те, кто сейчас кричит о большом брате, оккупации и поголовном ограблении узбеков, подумают головами, а не тем, что у них сейчас вместо мозгов: бывало ли когда-нибудь при большом брате так, что целые города, включая столицу, оставались без отопления, газа, света? Что доходило до мятежей, как в последнее время, по поводу отсутствия того же газа и света? Заметьте: речь идет о стране, обладающей залежами природного газа.
Когда я спросила, что же творится в кишлаках, мне коротко ответили: мрак.
А раньше, при ненавистном большом брате, в любом кишлаке точно были электричество, медпункты и школы. Где лечили и учили.
Нынешним дурачкам с промытыми мозгами в голову прийти не может, что когда-то, до «оккупации», не было такой нации – узбеки. Были сарты. Все оседлые жители Средней Азии с XV по XIX век были сартами. Не таджики, не узбеки – сарты. С языком, называемым сарт-тили. А знают ли дурачки с промытыми мозгами, какие болезни были наиболее распространены среди сартов? Так я могу вас просветить, кушайте на здоровье. По дорогам и в больших городах бродили прокаженные. Их никто не лечил, не изолировал. Сторонились, и не больше. Правда, был такой кишлак Махау, там жили прокаженные, но их тоже не лечили. Нужно же было им как-то добывать пропитание? Вот и бродили по дорогам, просили подаяние. Сейчас лепра излечима. Тогда – очень медленное и страшное умирание. При советской власти были лепрозории. А сейчас?
В воде жил такой червь. Ришта. Пробуравливал кожу. Откладывал яйца. Рос… В человеке рос. Лечения не было. Надрезали кожу, вытягивали ришту, наматывали на палочку. Ждали. Снова вытягивали. Снова ждали. Не порвется – вытащили. Порвется – начинай все сначала.
Комары. Разносили так называемый лейшманиоз. И малярию. Повсеместно. Что такое лейшманиоз, нынче забыли. Как и ришту. Лейшманиоз иначе назывался пендинкой, или пендинской язвой. Ничего вроде такого. Укус, язва, потом все заживает. Вот только беда: на коже остается огромная рытвина. Не оспинка. Рытвина. А поскольку по ночам человек укрывается, большая часть укусов приходилась на лицо. Вот и ходили люди, украшенные рытвинами…
Малярию описывать нужды нет.
Я еще застала пендинку и малярию. И в детстве глотала отвратительный акрихин. Когда недавно описывала все прелести этих болезней знакомой, та содрогнулась. Потому что росла в благополучное время и ничего такого даже не представляла.
Знают ли «умные головы», что кроме военного присутствия Туркестану пришлось терпеть нашествие врачей и учителей? Благодаря самоотверженности и героизму которых были напрочь искоренены ришта, лейшманиоз и малярия. Не сразу, но напрочь.
Правда, говорят, сейчас пендинка появилась снова. Так и до малярии недалеко. Большой брат следил, чтобы все обрабатывалось, и ежегодно. А независимым узбекам разве до таких мелочей?
Как говорила моя свекровь, золотые мозги (евреи) уехали. Золотые руки (русские) уехали. Одни золотые зубы остались.
Живите теперь…
Зато появились хиджабы, которых в Узбекистане вообще никогда не было. Зато теперь мусульманам запрещают жениться на немусульманках. Зато короткие юбки бесповоротно осуждаются. Словом, назад, к тому, что так талантливо описывал таджикско-узбекский писатель Садриддин Айни. Торжество мракобесия…
Несчастный, погибший за торжество Революции и права женщин Хамза. Недаром его имя так старательно убирают отовсюду. Не ко двору пришелся.